













Семья (после 1991)
Школа (старшие классы)
Оркестр
Поступление и учёба в НГУ
Общество Свободных Философов
Друзья
Разные воспоминания юности
Семья (после 1991)
Помню, как мы приезжали в Симферополь с мамой, Наташей и Аней в 90-е (после поездки впятером, состоявшейся в 1990-м году). В первый день по приезду баба и деда устраивали торжественное вручение подарков. В один из таких приездов мне подарили мой первый костюм, серый. С ним ещё произошёл забавный эпизод: после того, как я его померил и все остались очень довольны, мама хотела его повесить на вешалку, но бабуся не позволила. Она заботливо повесила костюм сама, элегантно встряхнула вешалку в руке и, радостно сияя, грациозно «поплыла» из комнаты в коридор, в то время как брюки от встряхивания предательски выскользнули из-под пиджака и остались лежать на полу. Мама тут же незаметно подхватила их и энергично показала нам, прыснувшим от смеха, кулак.
Возможно, с этим же самым днём связано и другое воспоминание: все собрались в той же большой комнате (только папы с нами в то лето тоже не было), и Аня, которой тогда было лет 5-6, старательно исполняла перед бабой и дедой песню, где были слова «про Конька-Горбунка». Почему-то вместо «горбунка» Аня всегда произносила «гробунка». А поскольку песня была медленная и пела она очень старательно, то удержаться от смеха нам с Наташей было очень трудно. На нас, естественно, шикали и шёпотом ругали, Аня обижалась, но произношение этого слова не изменяла.
С появлением дома компьютера (кажется, 1994-й год) появились компьютерные игры. Я очень любил шарики (G-Lines), набирал там многотысячные результаты, но и времени уходило по несколько часов на игру. Ещё играл в Wolf ‒ одну из самых первых трёхмерных стрелялок (действие происходило на базе нацистов). Девчонки восторженно играли в Алладина. Но была у нас и совместная игра ‒ парная аркада «Миф». Так назывался иксешник ‒ “Myth”, официальное название игры ‒ “Knightmare”. Эта игра ‒ 1986-го (!!!) года ‒ была просто восхитительно хорошо сделана и поистине бессмертна: два десятка лет спустя я нашёл её в интернете ‒ и мы с удовольствием рубились в неё уже с Мишкой и Каролиной, а когда в 2016-м году у нас гостила Наташа с семьёй, она тоже с удовольствием тряхнула стариной. Запускать её теперь приходилось с помощью «замедлителя» DosBox. К сожалению, на последнем, 8-м уровне она регулярно вылетала (а обычно уже на 7-м). Так что до конца мы её так и не прошли (видимо, я путаю: Аня говорит, что всё-таки прошли), хотя тогда, в 90-е, нам это несколько раз удалось сделать. Кстати, я с удовольствием играл в эту игру ещё с Ромкой, году в 1995-м или 1996-м.
В квартире на Морском у нас жил серый кот Васька, который явно появился у родителей ещё до моего рождения. Он частенько уходил гулять и подолгу где-то бегал ‒ родители его не выгуливали, он был очень самостоятельный. Однажды он убежал на несколько дней, а потом вдруг заявился домой. А однажды снова исчез и уже не вернулся. Это произошло, когда я тоже был ещё очень мал. Практически не помню его в квартире, зато отчётливо помню сидящим в проёме форточки на оконных рамах, созерцающим двор ‒ любимое его положение.
Много лет спустя, уже на Демакова, появилась кошка Мария ‒ белого цвета, очень умная. Мы с ней дружили, она любила приходить вечером и лежать сбоку на моём рабочем столе, в детской. Она появилась ещё до Германии, до 1996-го года, и когда я приехал, то в первый вечер демонстративно проигнорировала меня ‒ видимо, это было проявлением обиды на моё исчезновение (Аня напомнила мне, что на самом деле Кошка даже укусила меня за нос в тот первый вечер). Кстати, вдруг вспомнил: я не называл её Машкой, а только Кошкой ‒ как имя собственное, с большой буквы. Иногда ‒ Марихуаной.
Пока я был в Германии, родители взяли овчарку по имени Габи (Габриэла), а потом переименовали её в Роки. Собака была умная и добрая. Переживала, когда мы с девчонками азартно бегали по дому, и однажды даже растерянно чуть-чуть куснула меня за пятую точку, когда ей показалось (ошибочно), что я обижаю сестёр. Куснула – и тут же смущённо улеглась на пол, демонстрируя раскаяние. Между прочим, Роки чувствовала появление домашних задолго до их прихода, уже на этапе приближения к подъезду. Заметно оживлялась, перепутать было невозможно.
Меня она не слишком слушалась, по крайней мере на улице. Однажды (году в 1998 м или даже в начале 1999-го) увязалась за мной в университет, загнать её домой я не смог, хотя приложил к этому все усилия и уже опаздывал. В итоге я разозлился и пошёл, а она весело бежала поодаль. Я дошёл до лабораторного корпуса, сердито попрощался с ней (наверняка обозвал напоследок в сердцах) и пошёл на занятия. Вообще-то это, конечно, был безответственный, совсем не взрослый поступок. Однако Роки не растерялась. Вечером мама рассказала мне, что шла домой и, уже подходя, увидела Роки, мчавшуюся в сторону дома, как-то возбуждённо и сосредоточенно, причём выглядело так, как будто она мчится так уже долго, издалека. Кажется, Роки её даже не заметила (наверно, мама увидела её издали). Получается, она запомнила дорогу и отправилась домой, в том числе пересекла Проспект Лаврентьева и Кутателадзе.
Дела аграрные
Не помню точно, в 1992-м или даже ‒ уже сообразив, куда дует ветер, ‒ в 1991-м году, родители обзавелись земельным участком в шесть соток, на бывшем кукурузном поле. Кажется, их распределяли на папиной работе, хотя точно я не уверен. За Академом, примерно в сторону Ключей, уже в 1980-е годы было несколько садовых товариществ ‒ с домиками и прочим. Были такие дачные районы и в других местах: на шлюзе (дача Моники), в нижней Ельцовке и так далее. Но в 1990-е явление стало массовым: на участки нарезались новые поля, и большинство людей использовали их не как дачу, а как огород, зачастую без домика.
Это было время, когда во весь рост встал вопрос выживания, особенно перед людьми науки, которые тогда составляли подавляющее большинство жителей Академгородка. Впрочем, вполне возможно, что акцент на науке напрасен: ведь в те годы по всей стране одно за другим закрывались самые разные предприятия, а там, где они продолжали работать, крошечную зарплату нередко задерживали на много месяцев (это на фоне огромной инфляции). Нередко зарплату выдавали не деньгами, а продукцией самих предприятий ‒ причём не из-за вредности руководства, а из-за невозможности оперативно сбыть продукцию. Такова была цена так называемой шоковой терапии и практически тотального обрушения экономических связей внутри бывшего СССР. Конечно, я не экономист, но вряд ли нарисованная мной картина далека от действительности.
Самым гадким в этой истории является то, что процесс разрушения не был следствием неумелых, ошибочных действий. Нет, авторы соответствующих решений вполне открыто артикулировали в своё время, что главным для них было ‒ именно любой ценой разрушить советскую экономику, которую они якобы считали неэффективной (искренне или нет ‒ отдельный вопрос). С тем чтобы расчистить место для саморазвития новой, капиталистической экономики, которая якобы должна была расцвести пышным цветом, повинуясь уже упоминавшейся «невидимой руке рынка». Что ж, как известно, ломать ‒ не строить. С первым в 90-е справились, со вторым ‒ нет, да и не старались особо.
Да даже если бы и старались, ни черта бы у них не вышло: ведь у действий «невидимой руки» есть свои вполне жёсткие закономерности, предвидеть и предотвратить действие которых «они» либо не могли ‒ если они некомпетентные идиоты, либо не хотели ‒ если они сознательные предатели. (Да-да, пресловутая «рука» на самом деле существует, вся штука в том, что она вовсе не является «всеблагой», кроме как в сказках либеральных врунишек.)
Прежде всего, наличие этих закономерностей и ограничений следовало хотя бы признать ‒ так ведь не признают до сих пор! Им, видите ли, времени не хватило, но если бы не Путин, то они бы в итоге всё-таки просто ух как облагодетельствовали бы Россию! Что ж, перефразируя классика, остаётся лишь порадоваться, что жить «в эту пору прекрасную» всё-таки не довелось ни мне, ни тебе, читатель, даже если ты со мной сейчас и не согласен.
Впрочем, кто из заставших ту эпоху может выступить в её защиту и оправдание? Представители бизнеса, который в те годы ограничивался почти исключительно лишь торговлей, да сотрудники бесчисленных тогда банков (конечно, и те, и другие ‒ вполне нормальные честные профессии, но, как-никак, они ничего не производят, а лишь перераспределяют; а страна должна производить!). Да ещё, конечно, те журналисты и близкие к ним специальности, для кого «свобода благословенных девяностых», по которой они до сих пор дружно льют слёзы, свелась тогда к свободе рабски обслуживать интересы новой идеологии, а также частные бизнес-интересы конкретных представителей новой элиты.
Я собирался писать воспоминания, а не манифест от имени возмущённых современников, но поскольку дошёл в своих записках до 90-х годов, то решил всё-таки выразить вкратце своё к ним отношение, без этого текст был бы неполным. А теперь можно двигаться дальше. Наш участок располагался довольно далеко. К сожалению, не помню точно, сколько было идти от конца ул. Терешковой, но что-то около получаса. А может быть, и сорок минут. Мимо церкви, затем по узкому высокому ‒ метров пятнадцать ‒ мосту через овраг. Через какое-то время начинались старые садовые товарищества, надо было пройти через них, и дальше начинались новые поля, нарезанные на участки.
Работали на участке почти исключительно мы с папой. Иногда вдвоём, иногда порознь − каждый в удобное для него время. У нас с ним было по велосипеду, и иногда ездили туда на них. Вот почему-то не помню: наверно, сначала просто велосипедов не было, и мы ходили пешком. Или, возможно, уже после приобретения велосипедов пешком ходили осенью, когда нужно было нести домой урожай в рюкзаках… А может быть, и на велосипедах ездили с рюкзаками…
Мы сколотили ограду из каких-то столбов и палок. Кажется, напилили сухостой в соседнем лесу. А однажды я сколотил из всяких кривых прутьев калитку, которая впоследствии стала объектом шуток родителей. Видимо, я очень бравурно её описал дома, а когда они пришли и увидели её воочию, то она их очень развеселила. Кстати, это означает, что мама тоже иногда работала на огороде, но процентов девяносто работы мы выполняли вдвоём с папой. Я, конечно, не отлынивал, но он вкалывал там буквально с каким-то остервенением.
На участке не было водопровода (и колодца, естественно, тоже), так что выращивали без полива. Но всё росло как следует: и ягодные кусты, и множество кабачков, не говоря уже о картошке. В один из первых годов посадили помидоры ‒ и они тоже выросли в изобилии, несмотря на отсутствие полива, кроме дождей. Правда, помидоры были зелёные, но крепкие и крупные. Мы собрали их несколько вёдер. Вот только, к сожалению, значительная часть их потом испортилась – была какая-то зараза… Сейчас мне припоминается, что через несколько лет был проведён и водопровод. Но основная работа на участке велась с 1992 по 1996 годы. В 1997-м я был в Германии, и папа, кажется тоже. В 1998-м ‒ не помню…
Однажды, когда мы вместе вскапывали грядки, мне сильно досаждали комары, а папа мрачно заявлял, что это пустяки. Однако потом, уже дома, он увидел, что я весь покрыт укусами, и это произвело на него впечатление, он даже что-то сказал по этому поводу. Видимо, в тот вечер я просто показался комарам вкуснее.
Одновременно с началом работы на участке, мы с папой стали выращивать картошку на более удалённом поле, куда трижды в год совершались организованные выезды от его института (ИТПМ). Посадить, прополоть и окучить, собрать. На каждую семью приходилось по 4 сотки, вытянутые узкой длинной линией поперёк поля. Работа была серьёзная ‒ во всяком, случае, для меня в то время… Урожай наш составлял, помнится около 11-12 мешков, по 4 примерно ведра в мешке. На зиму вполне хватало, притом что к этому добавлялся урожай с участка.
В одну из осенних поездок (видимо, в 1993-м году) резко испортилась погода, лил дождь, земля стала тяжёлой и липкой, но остановиться и докопать в другой раз было нельзя: ждали автобусы и два больших грузовика ‒ Урал и какой-то иностранный, с названием, созвучным слову «магнус» (или «манкастер», что-то в этом роде). В общем, всё выкопали и собрали, но к этому времени дороги рядом с полем так развезло, что иностранный грузовик то и дело застревал. Урал несколько раз его выдёргивал, но в какой-то раз не сумел. Уже наступила ночь, а выдвинулись мы рано утром и по плану должны были вернуться в начале вечера. Автобусы («сапожки») тоже периодически застревали, хотя на колёса были намотаны цепи. Несколько раз всем приходилось выходить и, кажется, толкать.
Однажды ‒ видимо, в том самом 1994-м году, когда состоялся поход на пляж с одноклассниками! ‒ папа оказался в Германии, когда надо было ехать копать картошку. Но в это время в Нске оказался Мишка – и он вызвался мне помочь! Мы съездили с ним и выкопали всю картошку. Да, видимо, это был его первый приезд после эмиграции, чуть меньше чем через год после отъезда…
Минутах в восьми ходьбы от нашего дома, за военкоматом, располагались погреба ‒ тоже приобретённые организованно. Выглядели они как гаражи, но что-то не помню: возможно, они были у́же, так что машина бы не поместилась. В каждой ячейке («гараже») было по 2 погреба ‒ на двух хозяев. И зимой мы с папой по очереди (или, возможно, это была преимущественно моя обязанность) ходили туда с санками и возвращались с едой. Кроме картошки, мы хранили там свёклу и морковку с огорода, а также банки с квашеной капустой. Капусту квасил папа. В общем, картошка с квашеной капустой составляли в те непростые годы основу нашего рациона.
Не помню, как у нас обстояло дело с вареньем до появления погреба. Но, кажется, варенье мы всё-таки варили и раньше. Да, точно, у мамы даже был для этого специальный латунный таз с длинной ручкой. Ещё заготавливали на зиму бруснику в трёхлитровых банках, и её вклад в борьбу с весенним авитаминозом был весом. А с появлением погреба стали солить капусту ‒ это точно. И вроде огурцы и помидоры тоже. При этом, кстати, родители регулярно без спросу применяли в качестве груза блины от моих гантелей, и меня это возмущало.
Через несколько лет, уже во вторую половину 90-х, к нашему полю начал ходить автобус, причём отправлялся он прямо с улицы Демакова. Правда, ехал ужасно долго: объезжал «Ща», затем через Верхнюю зону шёл в сторону Бердска, там только поворачивал налево и через множество полей добирался до нашего. Но, во всяком случае, это была возможность вывозить урожай уже не на спине и в руках.
В какой-то момент мы купили небольшой сруб для бани и планировали сделать микродомик. Вдруг вспомнил, как мы с папой ножовкой выпиливали в уже собранном срубе окна. Через какое-то время Андрей с Надей сделали крышу, но как раз к этому моменту актуальность огорода уменьшилась. В итоге папа продал наш участок, причём с этим был связан отчасти типичный для него эпизод чрезмерного благородства, за которое мама долго потом на него обижалась ‒ не из-за упущенных в сделке денег, а из-за нелепости и искусственности самой проблемы. Я тогда не был посвящён в детали, но, оборачиваясь назад, склонен полагать, что в этом конкретном эпизоде мама была права. Это несмотря на то, что именно папа тянул основную лямку огородных дел (если не считать меня, конечно) и кому как не ему полагалось определять судьбу участка.
Только что поговорил по телефону с Наташей. Она уточнила, что исходно продажа участка состоялась году в 1999-м или 2000-м, а упомянутый мной неприятный эпизод с покупательницей ‒ уже в 2008-м, когда у неё возникли какие-то дополнительные требования, на которые вроде бы не следовало соглашаться, но папа согласился. Ещё Наташа напомнила мне, как однажды ‒ вроде бы в октябре 1997-го года (наверняка так, потому что в 1996-м и 1998-м я провёл октябрь в Германии) я собирался на огород, и она попросилась пойти со мной. Было уже холодно ‒ в тот год я приехал 12-го октября. На обратном пути нас подвёз на жигулях какой-то дед, причём он просто притормозил рядом с нами и сказал одно слово: «Садитесь».
Я благодарен огороду не только за его огромный вклад в выживание нашей семьи (конечно, мы бы не умерли от голода, но в целом нам и большинству наших знакомых в те годы приходилось именно выживать, так что этот вклад был, увы, не «в процветание»), но и за те многие часы, которые мы провели вдвоём с папой, особенно в пути туда и обратно. Потому что за работой было не до разговоров, а отдыхать там тоже как-то не доводилось, да и не было там для этого условий. Вернее была куча ботвы, на которой я иногда отдыхал, когда ходил один. Папа, кстати, перерывов не любил. Для него вообще во всякой работе характерна была самоотдача, граничащая с фанатизмом. Этого же ‒ в той или иной степени ‒ он требовал от меня.
Мне посчастливилось сохранить практически всю нашу переписку ‒ с моего отъезда в Германию. Наряду со многими другими темами, через неё красной нитью проходят ценные указания и настойчивые вопросы, касающиеся моей учёбы и планирования. (Отчасти это так просто потому, что я очень долго учился – одиннадцать лет; если отбросить «допереписочные» годы до Германии, то восемь). В основном его переполняла тревога, характерными были повторяющиеся вопросы «на что ты надеешься?!», «на что ты рассчитываешь?!»
В особенности их с мамой тревожил мой первый семестр в Германии: у них сложилось впечатление, будто я наслаждаюсь студенческой жизнью и гигантской по тогдашним российским меркам стипендией (1100 марок) и совершенно не забочусь о дальнейшем. К счастью, довольно скоро мне удалось доказать, что на этот счёт они заблуждались. Я получил множество «шайнов» (сертификатов) о сданных семестровых курсах, съездил на два месяца в Гамбург и заработал там столько денег, что их хватило ещё на один семестр учёбы, уже без стипендии. Наконец, я продлил визу и действительно остался ещё на семестр, после которого опять провёл пару месяцев в Гамбурге, где заработал «ещё одну» кучу денег. Впрочем, «Германия, зимняя сказка» ‒ это уже другая тема…
  |
  |
   |
  |
   |
  |
Школа (старшие классы)
В.И. Шелест
В девятом классе появился новый учитель по физике, Владимир Иванович Шелест. В какой-то момент он по собственной инициативе провёл масштабное тестирование. Тестов оказалось два: один ‒ на IQ (это я узнал уже намного позднее), а второй − общий психологический, довольно длинный. Запомнилось одно из заданий этого теста: был дан большой перечень свойств характера, из них нужно было выбрать какое-то количество качеств, которые считаешь наиболее важными положительными, и столько же наиболее для тебя значимых отрицательных. Так вот, я отнёс тогда к положительным качествам вспыльчивость, причём не по ошибке, а вполне сознательно. В этом проявился как юношеский романтизм, отчасти продиктованный приключенческой литературой (как раз в это время мне исполнялось четырнадцать лет), так и то обстоятельство, что я ощущал в себе нехватку решительности в конфликтных ситуациях. Хотя, как ни крути, вспыльчивость ‒ это никак не смелость, не мужественность, не решительность. Запомнилось, как забавная деталь.
По итогам тестов В.И. не поленился составить короткие индивидуальные беседы с каждым учеником (уже один этот факт автоматически добавляет ему «к карме» баллов 15). Мне он сказал, что по уровню способностей конкретно к физике у меня наиболее высокий результат в классе. И, сделав паузу, добавил, что при этом по навыкам устойчивой целенаправленной деятельности мои результаты тестирования, напротив, довольно скромные, и мне следует обратить на это внимание. Эту вторую часть его заключения я совершенно забыл, причём явно уже очень-очень давно, ‒ и только сейчас, уже написав про «наиболее высокий результат», вдруг вспомнил о ней, причём только приблизительный смысл, так что сформулировать пришлось самостоятельно. Весьма примечательная избирательность памяти!
В самом конце разговора он немного насмешливо сообщил мне, что я люблю мысленно гладить себя по голове, словно приговаривая, какой я хороший. Этот «наезд» оказался для меня довольно неожиданным, но в целом не очень обидным, других же значимых косяков в моём тогдашнем психологическом портрете, видимо, не обнаружилось. Впрочем, вполне возможно, что я просто не запомнил длинный перечень тех недостатков, которые были мне самому известны, и в памяти сохранился только этот неожиданный вердикт о самолюбовании. Кстати, гипотеза об игнорировании более существенных недостатков (если они всё-таки были озвучены) как раз соответствует склонности к самолюбованию и, таким образом, является внутренне непротиворечивой…
Ещё запомнилось, что когда мы писали эти тесты, то сидели за одним столом с Саней П. На каждый стол приходилось по одному экземпляру теста, и в какой-то момент нам нужны были разные страницы, а время, естественно, было лимитировано, так что мы из-за этого чуть не поссорились. Кстати, В.И. не сообщил нам численные значения IQ, и вообще я только намного позже узнал, что один из тестов содержал классический набор заданий на коэффициент интеллекта.
Тогда же, осенью 9-го класса, В.И. предложил всем желающим посещать вечерний физический кружок. Там решались и обсуждались самые разные задачи, в том числе логические. Иногда на дом, на длительный срок, давались такие «философские» задачи, как определение максимальной дальности полёта стрелы, пущенной из ручного лука ‒ не в смысле определить оптимальный угол стрельбы, а в смысле оценить потенциал самой схемы «руки плюс палка плюс тетива». Позже, уже в физматклассе, В.И. предложил разделиться на пары и каждой паре дал подобную «философскую» задачу. Каков максимальный объём пузыря воздуха, который может удержать под водой паутина паука? Какова оптимальная конструкция молотка для работы в условиях невесомости? Какова оптимальная схема расположения колёс у трёхколёсного транспортного средства: одно впереди или одно сзади? И другие подобные задачи.
Очень вскоре моё внимание привлекла одна девушка из параллельного класса ‒ высокая, с длинными волосами и энергичным, но мелодичным голосом, в юбке какого-то нестандартного покроя... После этого я стал посещать физический кружок с намного большим энтузиазмом. Но из-за моей стеснительности мы тогда даже не познакомились.
Несколько раз (или, возможно, только пару раз) В.И. организовывал на вечернем кружке занятия по ТРИЗ ‒ теории решения изобретательских задач, их вели два приглашённых лектора. Правда, решения некоторых из этих задач возникали в наших юных головах «не по методу», опережая «правильный» ход рассуждения, и это очень сердило наших наставников ‒ сказывался недостаток педагогического опыта. Но сама теория была, конечно, интересной.
Иногда «баловались» решением задач-загадок ‒ даётся намеренно фрагментарное описание какой-то непонятной ситуации и требуется, задавая загадавшему вопросы на «да» и «нет», определить суть произошедшего. Запомнилось небольшое «происшествие» с одной из таких загадок. Одна из моих одноклассниц по 9-му «Б», не до конца просчитав манёвр, немедленно после оглашения очередной «ситуации» задала какой-то второстепенный вопрос (никоим образом не вытекавший из условия) и, получив утвердительный ответ, радостно воскликнула: «Ну, тогда всё понятно! Дело было так-то и так-то!» Повисла долгая неловкая пауза. Все подумали одно и то же, но никто ничего не произнёс, перешли к следующей задачке…
Этот, в сущности, довольно невинный «проступок» запал мне тогда в память со смешением недоумения и раздражения (надо, пожалуй, пояснить: запас этих задачек-ситуаций был тогда очень ограниченным, а придумывать мы их не умели). Хотя теперь, оборачиваясь назад, я ощущаю к девчушке в первую очередь сочувствие. Жаль, что для этого понадобилось так много времени, ведь люди могли бы быть мягче и добрее друг к другу уже и в подростковом возрасте ‒ впрочем, я, как и все остальные, никак не выказал тогда своего раздражения.
Однажды В.И. предложил классу на выбор несколько поручений. Нам с Мишкой досталось прибыть в ИЯФ (институт ядерной физики, один из самых мощных институтов Академгородка; или, пожалуй, всё-таки самый мощный), позвонить кому-то, получить огромный магнит и транспортировать его в школу. Посоветовал взять санки ‒ и не зря: магнит оказался размером с крупную швейную машинку. Он воцарился в 216-м кабинете на подоконнике ‒ уверен, что он и ныне там. Сила притяжения впечатляла. Если честно, мы даже ладонь вставляли между его башнями не без опаски: всё-таки мало ли как электромагнитные силы влияют на биопроцессы?
В педагогическом арсенале В.И. имелась фирменная фича ‒ будильник. После того, как звенел звонок на урок, он выплывал из своей каптёрки, держа в руках этот самый будильник, грустно оглядывал присутствующих и дожидался, пока все усядутся и замолчат. Лишь после этого он засекал по нему ровно 45 минут (или, кажется, в последних классах уроки длились уже по 40?), ставил его на стол и начинал урок. Соответственно, сигналом к окончанию урока служил не школьный звонок, а звонок будильника, который задерживался ровно настолько, насколько было задержано начало урока ‒ волею нашей неорганизованности.
А ещё В.И. организовывал длительные велосипедные походы, и некоторые мои одноклассники в них участвовали. Эти походы очень тепло упомянуты в стихотворении Ксени, которое она написала на его юбилей. Организовывал он и выезды физического кружка на соревнования, в том числе куда-то далеко, на поезде. По-хорошему-то, «на его месте должен был быть я!» ‒ в смысле, с ними... Но у меня был оркестр, связанные с ним мысли и переживания (о которых ‒ ниже), а с октября 1992 ‒ интенсивная подготовка к вступительным экзаменам по русскому и литературе.
В сентябре 2015 г В.И. исполнялось 60 лет, и мы с одноклассниками и несколькими примкнувшими ребятами других классов написали ему небольшую книжечку поздравлений, а также подарили купон на поездку в Альпы (он живёт в Германии). Пожалуй, я даже вставлю здесь фрагмент из того поздравления с описанием нашего знакомства, а потом уже продолжу свой рассказ. Впрочем, лучше вставлю поздравление целиком: оно соответствует и тематике, и духу моего повествования.
Уважаемый Владимир Иванович!
Моё знакомство с Вами было стремительным и полным драматизма : ). В то время (классе в пятом) у меня была привычка ходить по школе с теннисным мячиком в руке, задумчиво бросать его на ходу в стенку и ловить. И вот как-то раз, когда я в этой своей задумчивости шёл и стучал мячиком о стену на втором этаже (во время урока), вдруг распахнулась дверь, которая до того дня никогда на моей памяти не открывалась, оттуда выскочил огромный, незнакомый, страшный и бородатый мужик, выхватил у меня мячик, что-то недовольно пробормотал и скрылся так же молниеносно, как появился. По иронии судьбы, я лишь несколько недель назад ‒ почти 30 лет спустя, готовясь к экзамену по промышленной безопасности, случайно узнал, что отъём мячика был не только справедливым «по понятиям», но ещё и легитимным (на этот счёт у меня в детстве были сомнения). Оказалось, что одним из подвидов административных наказаний является «конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения» (статья 3.7 КоАП РФ).
Прошло несколько лет, и Вы приняли меня в физматкласс, 10М. Вообще-то отбор Вы вели вместе с Борисом Леонтьевичем, но почему-то мне запомнилось, что признательность была именно к Вам, хотя с математикой у меня тогда тоже был порядок. А может быть, дело в том, что физику-то Вы вели у нас уже в 9-м, а Б. Л. Таныгин ‒ Борлеан ‒ был тогда ещё абстрактным божеством, связанным в нашем представлении исключительно с доской расписания, которым он рулил (нам только предстояло оценить его как замечательного учителя и присвоить ему уважительное звание Арктаныгинс). Так или иначе, приём в физматкласс был для меня очень важным событием. Дело в том, что в 9-м классе дела у меня в школе не клеились настолько, что меня всерьёз хотели исключить из школы. После этих неприятностей поступление в самый лучший класс словно открыло мне второе дыхание в жизни.
Как я этим воспользовался ‒ вопрос другой. Проявив чудовищную неблагодарность, я для начала закончил гуманитарный факультет. Было ли это ошибкой? Наверно, здесь уместно сравнение с карточной игрой. Там всегда есть наиболее правильный ход, ориентирующийся на наиболее вероятный расклад. Этот ход является условно самым умным, но он не обязательно ведёт к выигрышу: выигрыш обеспечивается не наиболее вероятным, а реальным распределением карт по игрокам. К победе мог вести как раз, напротив, самый условно тупой ход. Вероятно, примерно таким же «условно глупым поступком» был мой временный уход в гуманитарии. Так или иначе, 6 лет спустя я поступил на ГГФ НГУ, на геофизику, и закончил его с отличием, так что принятие меня в физматкласс всё-таки не было ошибкой : ).
Сейчас я занимаюсь нефтяной геологией и разработкой. Второе требует понимания физики пласта (двух- и трёхфазная фильтрация, выделение из нефти газа при снижении пластового давления с образованием третьей фазы и одновременным увеличением вязкости нефти и так далее). А главное – все процессы происходят не на моделях, а на конкретных «живых» объектах – месторождениях. Все данные имеют косвенный характер. В общем, есть над чем подумать, а это ведь самое главное, чему Вы нас учили.
Владимир Иванович, поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваш подход к обучению, который тогда не всем был понятен и не всеми был одобрен, но который лично я, оборачиваясь назад, полностью одобряю. И, в завершение, должен признаться: жалею, что не проводил больше времени на спецкурсах, не участвовал в поездках Вашей физматкоманды. Прочитал вот Ксенино стихотворение, и остро это ощутил : )
Желаю Вам здоровья и долгих лет профессиональной деятельности!
Поступление в физматкласс
Летом 1991-го года мы закончили девятый класс, получили аттестаты о неполном среднем образовании и стали писать вступительные экзамены для распределения по специализированным классам. Наибольшее количество желающих было в физматкласс. Я написал удачно и был принят. Класс получился очень сильным. В него попали девять ребят из «А», шесть из моего «Б» (позже добавился седьмой), пять из «В» и восемь ‒ из других школ. Программа по математике и физике у нас сильно отличалась от школьной: по математике были другие учебники, а курс по физике был устроен как университетский, В.И. вдохновенно «творил». Впрочем, он обеспечил нас целыми стопками толстых университетских учебников, по одному на каждый раздел физики, причём их можно было именно забрать домой ‒ если что-то не ясно, обращайся к «первоистокам».
Очень отчётливо и живо помню чувство эйфории в сентябре ‒ кожаный пиджак, дорога к школе от остановки с непривычным ощущением, что ты заслуженно прошёл трудный отбор и теперь перед тобой готовятся распахнуться все будущие двери учёбы и жизни; высокий уровень новых одноклассников ‒ как в физике и математике, так и вне их; акцентированно трудные задачки по математике, которые давались мне в ту осень как минимум не хуже, чем остальным... Фактически с этого момента я осознаю себя уже не как вроде бы способного, но не слишком прилежного мальчика, привычного к широкому спектру оценок − от двоек до пятёрок, а как действительно неглупого парня, попавшего в правильную среду и занимающегося правильным делом. (Правда, вскоре я увлёкся музыкой и к физике с математикой на какое-то время охладел, но это уже другая история…)
Когда я два года спустя поступил в НГУ, выдержав довольно высокий для НГУ конкурс, то тоже, конечно, радовался и гордился, однако настоящее чувство эйфории от принадлежности к чему-то запредельно прекрасному наполняло меня лишь однажды, в сентябре 1992-го года.
Общество Свободных Философов ‒ начало
Примерно в мае 1993-го года в нашем классе возникло сообщество из пяти человек: Борис, Давид, Вадик, Дима и я. Время от времени мы вместе пили чай в школьной столовой и примерно на этом основании шутливо называли себя свободными философами. После этого мы несколько раз пили уже не чай, а пиво, но и не в школьной столовой, а на крыше одной из девятиэтажек на ул. Терешковой. Примерно год спустя у этой «свободной философии» возникло неожиданное продолжение в стенах НГУ, о котором я ещё обязательно напишу.
Кстати, этим летом состоялась первая встреча школьного выпуска 1993-го года одноклассников ‒ 25 лет спустя, и за несколько дней до встречи я дал остальным почитать фрагменты своих воспоминаний, касающихся школы. Так вот, Ксеня призналась, что она с другими девчонками хорошо помнит наши заговорщические обсуждения походов «на крышу» и что они охотно составили бы нам тогда компанию в этом таинственном деле, но нам не приходило в голову их пригласить, а напрашиваться им не хотелось…
В начале мая Давид отмечал день рождения и собрал дома довольно большую компанию одноклассников. Было весело и как-то очень свежо, что ли… Ощущалось душевная общность людей и то, что все очень молоды и талантливы ‒ каждый по-своему. Вечеринка закончилась поздно, и мы прошли гурьбой по Нижней Ельцовке, которая в то время, конечно же, настраивала мои мысли на определённый лад (даже когда я просто ехал в Город или из Города по Бердскому проспекту ‒ и лишь мельком успевал рассмотреть несколько домов через проезд под железнодорожной насыпью). Был поздний майский вечер, и воздух, конечно, тоже был очень свеж, как и мысли. Тогда только-только появились разнообразные ликёры с немецкими этикетками, и они тоже имели какой-то новый, свежий вкус (конкретно в тот вечер ‒ банановый), словно обещая где-то там, в будущем, что-то неопределённое, но точно хорошее. Об этих загадочных ликёрах ещё будет несколько слов в разделе «Посиделки с друзьями».
А в начале июля все мы успешно сдали вступительные экзамены. Чувство радости (и, конечно, облегчения ‒ подготовка была длительным марафоном) было огромным! Думаю, впрочем, что у ребят было не так уж много шансов не поступить: в физматкласс стремились многие, и в итоге в нём собрались наиболее подготовленные; кроме того, Борис Леонтьевич по-настоящему здорово преподавал математику, ну а про В.И. я уже написал выше. Во всяком случае, мои шансы не поступить на филологию представлялись гораздо более зримыми, всё-таки конкурс в девять человек на место ‒ не шутка. С другой стороны, нельзя забывать, что сложность соперничества определялась не только количеством претендентов на одно место, но и средним уровнем их подготовки. Этот фактор как бы незримо «понижал» номинальный конкурс для меня и «повышал» его, скажем, для поступавших на физику. Так или иначе, поступили все. Борис ‒ на мехмат, остальные трое «философов» ‒ на физфак. А вообще в универ поступил весь класс, за исключением одной девушки, увлёкшейся религией и неожиданной для всех уехавшей куда-то на Дальний Восток с какими-то, как говорили, сектантами.
Мы с друзьями решили отметить поступление «как следует». Родители Димы очень любезно предложили сделать это у них дома, предоставив квартиру в наше распоряжение. И мы отметили, как умели! Помню, как с любопытством выбирали в ларьках спиртное (тогдашние ларьки ‒ это отдельный куплет поэмы). Взяли в итоге 5 бутылок, причём совершенно разных: там было и вино, и портвейн, и что-то крепкое, и ликёр, и не помню что ещё. Димин папа с интересом ознакомился с нашим выбором, тактично обратил наше внимание, что мы зачем-то взяли всё вразнобой, посоветовал никуда из дома не выходить, и они с супругой ушли, пожелав нам удачи. К счастью, всё закончилось хорошо... Это было 14-го июля 1993 г.
Оркестр
В детстве мы с родителями иногда ходили в Дом Учёных на концерты симфонической музыки, которые давал оркестр новосибирской филармонии под управлением А. Каца. Однажды выступал мой знаменитый земляк Вадик Репин, это я запомнил – правда, больше как факт, чем как музыкальное впечатление, но помню и его самого ‒ на сцене, со скрипкой. Меня начали водить на эти концерты довольно рано, и я помню, что немножко уставал сидеть и слушать. Но думаю, что польза всё же была. И хотя я не располагал сколько-нибудь значимым музыкальным талантом, всё же музыка заняла в моей жизни своё особое место, подарила мне оркестр, испанский, друзей, высокие и светлые чувства... В том числе и опыт выступлений на этой самой сцене большого зала ДУ (не в качестве альтернативы В. Репину, но всё же), а также яркие, пронзительные минуты вне этой сцены ‒ в том числе эпизод с белением чего-то ослепительно белого в полумраке зрительного зала, совсем рядом, под музыку других выступающих…
Вполне может быть, что всё то же самое состоялось бы и без этого раннего знакомства с симфонической музыкой в Большом зале Дома Учёных. Однако посредством такого рассуждения можно было бы выбросить из жизни что угодно, так что нет, пусть эта связь остаётся! Наряду с пластинками (выше я перечислял песни разных исполнителей, но классика тоже звучала) и, конечно, папиной игрой на пианино дома, которую я слышал с самого рождения.
Я упомянул, что был не слишком одарён в музыкальном плане, и это действительно так. Из ограничений, которые я был бы не прочь преодолеть, первым делом на ум приходит пресловутая буква эр, а затем – скудные вокальные данные (в первую очередь голос, но во вторую всё-таки и не слишком развитый слух). Отчасти я сам в этом виноват: слух можно было бы натренировать на занятиях по сольфеджио, однако так случилось, что в какой-то момент я довольно легкомысленно забросил их, и уже только весной 1992-го года, когда пришло время заканчивать музыкальную школу, стал лихорадочно готовиться, чтобы сдать экзамен. Экзамен на четвёрку сдал, но упущенное, конечно, полностью не наверстал.
Здесь, конечно, должен возникнуть вопрос, не страдала ли от отмеченного недостатка музыкальности моя игра в оркестре. Дело, однако, в том, что не было – выраженного таланта, но определённые способности к музыке, несомненно, были. Кроме того, в искусстве, как-никак, свою роль играет пресловутый труд – а я, начиная с 1991-го года, стал заниматься дома не просто регулярно, но и по-настоящему много. Мне даже помнится, что начиная с осени я играл в среднем по 3 ‒ 4 часа в день (считая репетиции оркестра).
Кроме того, я неплохо владел игрой «с листа» (исполнение в нормальном темпе, с минимумом ошибок, партии, которую видишь впервые), в том числе транспонируя на тон выше из флейтовых или скрипичных партий. Конечно, с точки зрения исполнительского мастерства, это умение не имеет большого значения, однако здесь есть важный нюанс. Для любительского оркестра характерно несколько иное распределение значимости между концертными выступлениями и репетиционным процессом: и то, и другое является непосредственным предметом увлечения, творением музыки, а также общением. На репетициях – особенно в ту эпоху, когда ещё не было ксероксов, сканеров, принтеров и нотных баз в интернете, − зачастую под рукой не оказывалось подходящих партий, либо нужно было заменить чей-то голос, если на репетиции кого-то не хватало. В этих условиях умение транспонировать, да и вообще читать с листа, оказывалось весьма полезным.
Я упомянул отсутствие принтеров и прочего, но забыл сообщить важную деталь: практически все наши партии были рукописными! Значительная часть была написана размашистым, очень узнаваемым почерком Шефа, но многие были переписаны и самими оркестрантами. На некоторых переписчики ставили свои имена и даты, такие партии всегда казались мне особенно ценными. Кроме переписывания, была лишь возможность сфотографировать партию и напечатать её как фотографию крупного формата, однако фон получался тёмно-жёлтым, и играть было не очень удобно, так что это были, скорее, исключения.
Поездки в Город
Кроме отчётных концертов по специальности, периодичность которых я не помню (точно были в мае, но возможно, что и какие-то промежуточные тоже), Шеф возил учеников в Город на конкурсы. Эти конкурсы были составным элементом обучения, поскольку позволяли увидеть и услышать сразу многих ребят-кларнетистов из других музыкальных школ. Но кроме того, особый тонус задавали сами поездки в Город. Мы встречались на конечной остановке «восьмёрки» ‒ тогда она была расположена отдельно, в самом начале Жемчужной. Ехали до «Речного вокзала», потом на метро. Человек пять-шесть учеников, Шеф и Татьяна Николаевна Лапухова, наш концертмейстер. Кстати, я написал «ребят-кларнетистов» − и действительно, девочки по классу кларнета одновременно со мной почему-то практически не учились. Уже потом у нас пошли на кларнет Полина, Катя Б., а в 2000-х ещё Катя А. Между тем, в современных оркестрах кларнетистки ‒ не редкость, особенно в молодёжных.
Примерно с осени 1991-го года мы с Колей стали ездить в Город на уроки испанского, которые раз в неделю проходили в областной библиотеке. Их вела Наталья Серафимовна Бромберг ‒ замечательный преподаватель и человек. Бережно храню её подарок ‒ «Сто лет одиночества» в оригинале, с дарственной надписью (правда, прочитал, к сожалению, пока только несколько десятков страниц; но ещё не вечер!). Кстати, интересно: между началом 1990-го года, когда прекратились наши занятия у Татьяны Анатольевны ‒ ни в чём, кстати, не уступавшей Наталье Серафимовне, ‒ и осенью 1991-го, когда мы с Колей продолжили занятия в областной библиотеке, совсем небольшой промежуток времени. Но в памяти они относятся к совершенно разным эпохам. Об этой субъективной периодизации собственной жизни я ещё, наверно, напишу позже.
Коля как раз тогда поступил в музыкальное училище. Наверно, туда я ехал обычно один, ведь у него занятия были в Городе, а возвращались в Городок мы вдвоём. Иногда после занятий мы угощали друг друга какими-нибудь припасами из внутреннего кармана: сушками, плавленным сыром.
Иногда почему-то получалось, что мы ехали в Город вдвоём с Шефом ‒ например, на какой-нибудь концерт. А также куда-то ходили с ним в Городе ‒ например, в гости к его племяннице Вере Владимировне, которая в то время преподавала флейту в нашей ДМШ ‒ и преподавала очень неплохо. Он рассказывал мне ‒ о детстве, о поездках оркестра, ещё о чём-то. Эти совместные с Эдуардом Михайловичем поездки и прогулки по Городу мне очень памятны и дороги. Как раз в то время в моей жизни было яркое чувство. И как раз в то время я всерьёз захотел стать профессиональным музыкантом, стал много и усердно заниматься, и мой уровень, вообще говоря, стал заметно улучшаться.
Мы с Колей прозанимались так полный учебный год, после чего нас пригласили ездить на испанский клуб, который проходил там же и тоже раз в неделю, только в другой день (впрочем, вполне возможно, что нас пригласили туда и раньше, точно не помню). Каждый такой клубный вечер был для меня настоящим праздником, хотя и с таким простым секретом: люди, имевшие общее увлечение ‒ испанский язык ‒ просто собирались вместе и разговаривали на нём. Иногда кто-нибудь делился впечатлениями о командировке в одну из испаноговорящих стран. Это были 1992-1993-й годы, «железный занавес» только что исчез, но поездки за рубеж всё ещё оставались большой редкостью, а загрантуризма, пожалуй, ещё и не было как такового.
Сейчас вдруг вспомнилось, что наша дружба с Колей была очень доверительной: мы делились друг с другом, конечно, не всеми мыслями и чувствами, но довольно многим ‒ особенно в чуть более поздние годы. И, между прочим, при обсуждении некоторых конфиденциальных тем мы иногда переходили на испанский ‒ хотя наше им владение в то время было не столь уж полным, так что это требовало усилий. Помню один такой взволнованный разговор в подъезде…
О связи времён
Примерно в те же годы я очень грустил о том, что практически не застал эпоху расцвета нашего оркестра, не застал ансамбль кубинской песни, грезил о том, что вот бы когда-нибудь снова всех собрать ‒ и отчётливо сознавал, что это невозможно. Точно помню это настроение уже летом 1991-го года. Я с упоением читал их летопись, заведённую в 1987-м году, с описанием репетиций, концертов, поездок, с шутливыми наездами и вписанными на полях опровержениями, с намёками на романы… С трепетом разбирал переписанные от руки партии, на которых были даты и подписи, нередко с пометками поездов или населённых пунктов, в которых проходили гастроли оркестра в 80-х годах ‒ таких поездок было очень много. Я давно уже привык к мысли, что никогда никому не завидовал, ‒ но нет, к этим ребятам я, пожалуй, всё-таки чувствовал тогда что-то вроде зависти, хоть и довольно светлой, если можно так выразиться.
Кстати, не помню точно когда ‒ возможно, попозже, но ненамного, ‒ я увидел фильм «Когда святые маршируют». Удивительно, насколько точно он попал, как в мишень, в самую сокровенную мою мечту! С тех самых пор я этот фильм не видел и давно уже забыл, как он называется. Так что собирался сейчас поискать его в гугле через описание сюжета, как вдруг вспомнил название! Почему-то мне помнилось, что это американский фильм, но он оказался нашим, причём как раз 1990-го года. Интересно, что я почти не помню сюжет, а только желание-мечту главного героя ‒ и грустную убеждённость в недостижимости этой мечты.
С учётом этого, трудно назвать иначе чем сказкой юбилей Шефа, состоявшийся в субботу, 23-го ноября 2013-го года. В тот вечер я познакомился с кумирами моей юности Олегом С. и Костей Ш. С Алиной Ш. С Олей Ш. ‒ написавшей чудесные строки, которыми я завершил наш юбилейный сборник. Повидал стольких хороших людей. Играл «Увертюру» Мысливечека и «Дорогу» Свиридова с дирижированием Пети Белякина. Впервые играл в таком огромном составе, под управлением Эдуарда Михайловича! И вообще-то ‒ до чего же мне хочется квакнуть это во всю лягушачью глотку : ) Но пусть так, я всё равно это скажу: Сергей Шатров имел некоторое отношение к тому, что в этот день собралось столько людей! (И к тому, что ещё намного больше людей написали свои поздравления и воспоминания.) И если это не счастье и не настоящая полнота жизни, то что же тогда счастье и полнота? Нет уж, даже не пытайтесь спорить.
На самом деле я должен был познакомиться с ними со всеми намного раньше. В конце 1989-го года, ещё даже до рождения той моей мечты. Это была поездка Оркестра в Румынию. Вообще, конечно, поездок было очень много, и о них есть множество упоминаний в Юбилейной книге, но та поездка была единственной зарубежной, и мне неожиданно выпал шанс в ней участвовать, хотя в оркестре-то я ещё практически не играл. Но Шеф меня пригласил. Видимо, лишнее место появилось самой перед поездкой, нужно было очень срочно подготовить документы, в том числе фотографии. Я должен был приехать в Город, сфотографироваться в фотоателье, а он потом ‒ забрать эти фотографии и отдать их вместе с документами «куда надо».
И вот в назначенный день случилось страшное: я приехал в Город, нашёл фотоателье, сфотографировался, объяснил, кто заберёт потом готовые фотографии (пожалуй, будет нелишним напомнить, что в то время плёнки долго проявлялись, потом фотографии печатались, потом сохли…), и уехал. Шеф в назначенное время приехал и стал требовать с работников ателье мои фотографии, но неожиданно получил отказ. Потом… Потом мы узнали, что это были два разных фотоателье, хотя и расположенных близко друг к другу. Но было уже поздно. Так я не поехал в Румынию.
После той поездки в нашем любимом 28-м классе висела на стене (или, скорее, стояла на полке) открытка города Брашов. И однажды Шеф и одна девушка мне её подарили. Так вот, прошло ещё несколько лет, и в ноябре 1998-го года я ехал на автобусе из Гамбурга в Симферополь. Автобус шёл до Бухареста, оттуда я планировал добираться через Молдову и Одессу на поезде. Но в городе Брашове я всё-таки сошёл с автобуса, переночевал на вокзале (была уже ночь), а утром отправился искать эту улицу с открытки. Открытка была у меня с собой. И теперь у меня есть фотография, снятая практически с того же ракурса, что открытка: я стою на той улице, у меня за спиной тот самый вид, а в руках та открытка. Этот эпизод мне памятен и дорог. Не знаю, о чём он говорит. О готовности человека отдавать Судьбе долги? О бережной нежности к памятным людям, памятным вещам? Или о наличии большого количества свободного времени?
Кстати, да, мне как раз недавно попалось мамино письмо именно тех самых осенних дней, в котором она выражает недовольство моим планом поехать домой не напрямую, а через Симферополь. Впрочем, это совсем другая история.
Из юбилейной книги «Лэдумио Беблучени», изданной в ноябре 2013 г
В оркестре СОША играю с 1990 г. по сегодняшний день. Но моё чувство сопричастности к оркестру восходит к более давним временам, поскольку в отдельных репетициях я участвовал и в конце 80 х, а с 1987-го по 1990-й вместе с группой оркестрантов изучал испанский у нашей несравненной Татьяны Анатольевны. Кажется, в том же 1987-м г (возможно, в 1988-м) я побывал на концерте СОША в Доме Учёных. Была очень большая и разнообразная программа, и не покидало ощущение сказочности происходящего. Больше всего запомнилась «Итальянская полька» Рахманинова, соло на ксилофоне (наверно, отсюда и «сказочность»). Единственное, чего я до сих пор не понимаю, − почему я уже тогда не осознал, что самое лучшее на свете занятие – это играть в оркестре.
Я познакомился с Эдуардом Михайловичем в 1987 г, когда поступал в ДМШ на класс кларнета, и это было не случайно: моя одноклассница Наташа К. играла в то время в оркестре, так что при выборе инструмента мы с родителями руководствовались восторженными отзывами её самой и её родителей. Первые годы я, кажется, занимался не слишком усердно… Всё изменилось в 1991-м году, с которого, собственно, и началась моя полноценная оркестровая жизнь, которая продолжается по сегодняшний день, несмотря на время и расстояние.
В памяти много обрывочных картин, повторявшихся много раз и ставших яркими, отчётливыми образами детства, юности. Вот некоторые из них. Зима, воскресное морозное утро, мне 11-12 лет, я иду по Морскому проспекту на испанский (для меня это часть оркестровой жизни). Уют, грамматика, стихи и песни, чай с печеньем, Татьяна Анатольевна. Другой выходной день, утро, в музыкальной школе собираются оркестранты на генеральную репетицию перед тем, как отправиться куда-то на выездной концерт (в пределах города). Вечерние поездки с Э.М. вдвоём в город в 1992-1993, его рассказы о себе. Лето 1994 г, проведённое в муз. школе, как в летнем лагере: репетировали, играли в коридорах в футбол и другие игры, снова репетировали, ходили на пляж… Концерты на улице – в разных местах и в разные годы, в том числе на крыше ДМШ (куда нам, 130-никам, лазить через окно 210-го класса строжайше запрещалось, а тут это вдруг реализовалось вполне легально, да ещё с музыкой). Концерты в большом зале Дома Учёных – бескрайнее пространство сцены, переноска и расставление стульев, зрительный зал, сама музыка… И, конечно, не только музыка, но и дружба, и любовь – в разные годы разная, и печаль, и радость – словом, всё то, что всегда было и будет с музыкой едино. Вот что такое примерно для меня наш оркестр СОША и вот за что я бесконечно благодарен Эдуарду Михайловичу Левину − моему учителю, дирижёру, моему близкому старшему другу.
Одна история, которую можно записать, произошла во время поездки в Горно-Алтайск в сентябре 1994 г. Для нас эта поездка была огромным, долгожданным счастьем, уже хотя бы потому, что была она за несколько лет единственной (в смысле – за пределы области, на несколько дней). Мы разместились за городом, на лыжной базе. «Удобства» были во дворе, и нужно было спускаться по тёмной лестнице. В общем, не обязательно иметь много фантазии, чтобы понять: удержаться от того, чтобы установить на этой лестнице ловушку из стульев, швабр и деревянных корзин для мусора, было просто невозможно – по крайней мере, в том возрасте. Первым не удержавшимся оказался я, а первой попавшейся в ловушку, кажется, Катя Хапунова (Катя, прости меня, пожалуйста!). Разумеется, ловушка заключалась не в том, чтобы стулья свалились кому-то на голову (на это моих мозгов всё-таки хватило), а в том, что человек, задумавший вечерком спуститься во двор послушать пенье птиц, случайно встречается в темноте с деревянной конструкцией. В результате чего конструкция, разваливаясь на свои составляющие, с ужасным грохотом – разносящимся по пустому зданию – скатывается по лестнице вниз. В общем, по тогдашним меркам, сущие пустяки…
Так вот, в тот вечер Э.М. был вне себя. Он демонстративно не стал спрашивать, кто это сделал, а потребовал себе мою любимую летопись СОША (которую я завёл в сентябре 1992 г и которую преимущественно сам же и вёл на протяжении нескольких лет) и исписал три страницы! Это была гневная отповедь неизвестному злоумышленнику. Самая длинная запись Эдуарда Михайловича в нашей летописи. Должен сказать, это произвело впечатление. Больше подобного баловства не было. Жаль, что всего 2-3 года назад (!) кто-то не очень хороший утащил из 28-го класса эту бесценную тетрадь и не вернул. Столько в ней всего было…
Дорогой Эдуард Михайлович! С днём рождения! За эти три с половиной десятка лет, что существует наш оркестр, Вы преподали каждому из нас множество уроков – музыки, педагогики, юмора, жизни. И всем нам, конечно, хочется доказать (возможно, неявно, не вслух), что каждый из этих уроков не прошёл даром. Надеюсь, Вы дадите нам ещё хотя бы пару десятилетий на устранение мелких недоработок и на пересдачи, тем более что 100 – это как раз очень подходящая цифра. Одним словом, в этом году мы пока только репетируем тот будущий − по-настоящему круглый − юбилей!
Другие воспоминания, вставленные в ту книгу
В конце 1992-го г. несколько оркестрантов объединились в ансамбль кубинской музыки, который просуществовал до весны 1994-го. Вернее мы играли и некоторые другие произведения («особенно» фугу Баха), но идеей объединения была именно кубинская музыка. Играли “Las cuatro palomas”, “Maldita timidez”, “Son de la Loma”, “Esas no son Cubanas” и другое. Первое время в ансамбле было 4 участника: Коля Ш., Наташа Г., Кирилл С. и я. Было несколько репетиций, потом длительная пауза. А летом 1993 к нам присоединились Аня Х. и Маша С., позже – Егор С. В то лето мы часто собирались в школе на репетиции, а потом стали ещё и учить испанский. Кстати, в некоторых воспоминаниях слегка смешались лето 1993-го и 1994-го годов, так вот, изучение испанского было всё-таки в 1993-м (мы с Колей преподавали его Серёже, Наташе, Маше и Ане). Зимой 1993/1994 пробовали уже не только играть, но и петь испанские песни…
Сегодня я нашёл в своём архиве тонкую тетрадочку с гордым названием «Летопись ансамбля», которую вёл в то время и никому никогда не показывал. Оказывается, мы даже планировали поставить силами ансамбля − на 60-летие Э.М. – спектакль с характерным названием «Расколдовка по-кубински»! В моей летописи зафиксирован сюжет и роли, но я не могу вспомнить, поставили мы его в итоге или нет. Во всяком случае, помечено, что уже были розданы и разучивались тексты ролей… А ещё, оказывается, было письмо к Фиделю Кастро, которое Шеф лихо написал в «восьмёрке», по дороге в город, и к которому было собрано минимум 18 подписей.
Понимаю, что это будет интересно далеко не всем, но всё же «озвучу» ещё один фрагмент из этой летописи, соседний с письмом к Фиделю. Думаю, некоторые про созвездие должны вспомнить с улыбкой... «После репетиции пили молоко с печеньем. Ещё было 4 конфеты в цветной обёртке. Перед началом трапезы Коля произнёс тираду о «преимуществах молока перед поросёночным маслом» [имея в виду алкоголь]. После чего выяснилось, что сей последний вредоносный продукт в изобилии содержится в его конфетах: они оказались с коньяком. По дороге к домам кубинок, Коля по секрету высказал мне предположение, что съеденная порция алкоголя негативно скажется на некоторых из них. И точно! Обсуждали одно созвездие; так мало того, что никто, кроме меня, не мог осознать, что оно представляет из себя усечённую рюмку; нет, Аня ещё задумчиво сообщила, что она «не всегда хорошо видит, это зависит от погоды и от обстоятельств». Когда мы с Колей дружно захохотали, она заподозрила неладное и, обиженно бормоча «так-так… Коля, где тут моя скрипка?», стала нащупывать свою скрипку (Коля нёс две). А поскольку Коля об этом и не подозревал и продолжал шагать вперёд, то зрелище получилось довольно забавное».
Конечно, следует написать и о том, что 28-й класс изобиловал всевозможными материалами, расклеенными по стенам и выставляемыми в окне. Вообще, окно долгое время играло роль своеобразной стенгазеты, почитать которую останавливались в массовом порядке дети и родители, не имеющие к 28-му классу никакого отношения. А Шеф был редактором этой стенгазеты, регулярно обновляя материалы. Одно время на окне − среди массы объявлений, фотографий, газетных вырезок и детских рисунков − висела открытка, на которой были изображены две задумчивые зебры на лугу. Рядом с открыткой была размещена надпись от руки на полоске бумаги: "ЛУНАЧАРА ЧЕНАМИПО". Вскоре выяснилось, что все непосвященные дети абсолютно уверены: именно так зовут этих двух зебр. И только оркестранты знали, что это − очередное гениальное сокращение от Шефа: «Лучше на час раньше, чем на минуту позже!» − зебры же оказались рядом совершенно случайно. (Или всё-таки не случайно, Эдуард Михайлович?) Кстати, среди тогдашних оркестрантов это сокращение до сих пор в ходу. Другой вопрос, все ли в силах неизменно ему следовать : )
Запомнились на всю жизнь и некоторые другие надписи от Эдуарда Михайловича, более серьёзные: «За яркими успехами учеников виднеются спины их родителей». «Каждый обессилевший человек, прежде чем упасть, должен вспомнить: у него достаточно сил, чтобы сделать ещё один шаг». Другие что-то не могу сходу вспомнить, но их было немало…
Летом 1991 г нам почему-то разрешили репетировать в здании 130-й школы (возможно, музыкалка была на ремонте – точно не помню), у нас был ключ от запасного выхода. В то лето в Новосибирске гостили канадцы, а ещё японский симфонический оркестр, мы перед теми и другими выступали. Так вот, однажды после репетиции все уже разошлись, а мы с Э.М. уходили последними. И тут выяснилось, что с замком от двери школы что-то случилось, он не закрывается! Ситуация патовая: оставить дверь в школу (тем более не свою ДМШ) незапертой – абсолютно немыслимо, позвать на помощь – некого: ключ, кажется, был получен через третьи руки, разгар летних каникул, эпоха мобильных телефонов ещё даже не маячила впереди…
Не помню точно всех перипетий и попыток, но в итоге было нащупано единственно верное решение: мы сняли и разобрали этот замок, вытащили сломавшуюся пружину и соответствующую ей пластину, вставили между движущихся пластин какую-то ерунду, чтобы они сохранили параллельность… В итоге замок всё-таки заработал, дверь удалось закрыть! Ушло на всё это несколько часов. Кстати, после этого мне минимум три раза доводилось аналогичным образом «чинить» похожие замки (подчеркну: свои), так что этот случай относится к бездонной копилке жизненного (и душевного) опыта, полученного − кроме музыки − в общении с Эдуардом Михайловичем.
Примерно в 1991-м году Э.М. продемонстрировал недюжинный конструкторский талант, изобретя пюпитр-штангу. Да-да, и не надо иронично улыбаться! Это чудо инженерной мысли представляло собой тонкую железную трубу на массивной круглой подставке, в трубу была вставлена и закреплена верхняя часть обычного оркестрового пульта. А ещё к верхушке трубы, чтобы уравновесить подставку, была изящно приделана гантеля (вес её я не помню, но не очень большой). И иногда Шеф с видимым удовольствием разминался с этой импровизированной штангой, поднимая её одной рукой. Дима Лазутин и я (и наверняка не только мы) следовали его примеру. Примерно в то же время в проёме между дверями появился турник.
Вечером 31-го декабря 1992 г мы с Колей и Наташей после «новогодней репетиции» нашего ансамбля перерисовали на большой лист какой-то рисунок (не помню какой), и мы с Колей, попрощавшись с хозяйкой, отправились поздравлять Шефа. В дороге много спорили о способе вручения подарка. В итоге решили положить на коврик перед дверью рисунок, на него поставить зажжённую свечку (была с собой), позвонить и убежать. Когда Шеф открыл дверь и увидел под ногами огонь, то, видимо, подумал, что какие-то хулиганы решили подпалить его дверь, и несколько суетливо, со словами недвусмысленного осуждения, задул свечку. Но потом, видимо, что-то понял и отыскал нас с Колей за мусоропроводом : ) Все трое съели по яблоку и разошлись по домам. Это было примерно пол-одиннадцатого вечера, в новогоднюю ночь.
[Конец моего текста из Книги Воспоминаний и Поздравлений.]
Н29
Самым продолжительным чувством моей юности стала удивительная девушка, игравшая в оркестре на флейте. (Вообще-то я обозначаю юностью период с октября 1991-го по март 1997-го года, но в данном случае имею в виду всё, что было до 1997-го года.) Для определённости будем называть её Н29. Вычислить её имя и фамилию совсем не сложно, и я не вижу ни малейшей причины делать из этого секрет. И всё же, когда в начале этого (2017-го) года я вдруг узнал, что Мишка в разговоре с мамой называет свою подругу «Одна Девочка», то мысленно хлопнул в ладоши: эта вербальная аккуратность была мне столь близкой и памятной! Разве что с небольшой вариацией: «Та Девушка» ‒ кстати, под влиянием эпизода из «Шерлока Холмса»... В общем, пусть пока что будет Н29.
В сентябре 1987-го года, когда мы с ней поступили в музыкалку, я учился в пятом классе, она ‒ в третьем, мне было почти 11, а ей ‒ всего 9. Мы не были знакомы и почти не пересекались в коридорах. Я визуально знал её по отчётным концертам: поскольку мы оба учились на оркестровом отделении, и к тому же оба на духовом, отчётные концерты были у нас общими. С 1990-го года мы играли в оркестре. Долгое время два года казались большой разницей в возрасте. Любой из нас не раз слышал банальный эпитет «голос как колокольчик» ‒ в её случае это был не эпитет, а простое обозначение факта… Кстати, в нашей домашней фонотеке имелась магнитофонная (катушечная) запись аудиоспектакля «Алиса в стране чудес» с участием Высоцкого ‒ девичий голосок в песенке «Сэр, возьмите Алису с собой» казался мне таким похожим…
Впрочем, это я забежал вперёд, но только лишь на чуть-чуть, потому что однажды, 21 го октября 1991-го года, я вдруг ‒ вдруг ‒ осознал, что влюблён. Что ж, такое осознание посещало меня уже в третий раз в жизни. Но тогда я ещё не знал, что этот «третий раз» превзойдёт по своей протяжённости и значимости как предыдущие, так и несколько последующих движений души.
Я написал «по значимости» ‒ и вынужден тотчас же пояснить: нет, Судьба и на этот раз не подарила мне тайных свиданий, прогулок под луной, совместных планов, обещаний верности… И всё же мне повезло пройти большущий путь, наполненный смыслом, нежностью, надеждой, высокими и поэтическими размышлениями. Мне только что исполнилось пятнадцать, личность проходила завершающую стадию формирования ‒ из заготовки, которая, конечно, уже имела все значимые черты индивидуальности, с достоинствами и недостатками, но которая всё-таки была ещё сырой, ещё не вполне определённой. Полагаю, тот факт, что эта «доводка» происходила на фоне длительного, яркого, всепоглощающего, идеалистичного чувства, да ещё очень облагороженного симфонической музыкой, ‒ этот не слишком бросающийся в глаза факт был, вероятно, большой удачей моей юности.
Я не очень хорошо помню первые два месяца. Помню день рождения Шефа ровно через месяц, я испёк торт. (Да, в детстве я иногда сам пёк торты, чаще всего «Негр в пене» либо ‒ как в этот раз ‒ коржи со сметанным желе, но иногда и Наполеон, требовавший настоящей возни.) Затем помню концерт в музыкальном салоне ДУ 26-го декабря, в четверг. Картины в духе средневековья на стенах, в том числе рыцарь с добрым лицом и задумчивая девушка, склонившая голову ему на плечо. Предложение Шефа при прощании, лёгкое замешательство, улыбка, дверь. И сказочный концерт в ДК «Маяк» ‒ в воскресенье, 29-го декабря. Помню и даты, и дни недели.
Всё-таки это было ещё детство, переходившее в юность (по сути, в те самые недели и дни), и атмосфера новогоднего утренника для детей, в котором принимал участие наш маленький оркестр, соединившись с моим восторженным чувством, осталась в памяти каким-то ярким праздничным салютом, стойким предчувствием чего-то большого и прекрасного, чего ещё нет, но чему непременно надлежит быть. На прощание организаторы подарили нам, оркестрантам, по маленькой хлопушке (и, наверно, ещё что-то новогодне-съедобное, чего я не запомнил). Я сохранил эту хлопушку, перевязанную бантиком из тонкой красной ленты ‒ тоже каким-то образом связанной с Н29, и загадал, что хлопну её в тот прекрасный день, когда и если осуществится моя романтическая мечта ‒ и чувство станет взаимным. Через какое-то время я, конечно, сообразил, что, каким бы благоприятным образом ни развивались события в будущем, разрядить хлопушку означало бы поставить в жизни преждевременную точку…
Загаданный день ‒ “el día que me quieras” ‒ так и не наступил, но по-настоящему счастливых дней, залитых солнцем и блеском её чёрных глаз, было в 1992-м году немало! Так что строка другой песни: “y no florearon los arrayanes” ‒ всё-таки тоже не про этот год. В общем, я до сих пор храню этот талисман из далёкого волшебного воскресенья. Кстати, эти испанские строчки вовсе не являются, как говорится в палеографии, «позднейшими вставками переписчика»: я знакомился с этими и многими другими латиноамериканскими песнями именно в то время. Кроме нескольких сборников кубинских нот (со словами), у Шефа имелась увесистая книжка о кубинской музыке. Кроме того, у нас дома ‒ опять же, неожиданно для меня ‒ обнаружился толстенный сборник «Антология испанской поэзии», с русскими переводами.
В тот период, осенью и зимой, оркестр оказался совсем небольшим, это был отрицательный пик посещаемости (а ведь ещё летом того же года были выступления довольно большим коллективом ‒ перед канадцами и перед японцами). Однажды Шеф грустно произнёс: «Совсем оголили состав…» Впрочем, для меня было не важно, сколько человек на репетиции: ведь Н29 их практически не пропускала. Моя жизнь распалась на ритмичное чередование ослепительно-белых и тёмно-серых полос: к первым относились среда и суббота ‒ дни репетиций (и их ожидания с самого утра), а также дни выступлений. У неё был жёлто-красный школьный рюкзак, и каждый раз, когда я, входя в среду или субботу в 28-й класс, видел на одном из стульев это яркое пятно, в голове как вспышка проносилось: «Ура!»
Затем были две среды: 15-е и 22-е января, с провожанием до остановки. Потом не помню, но всё было в том же духе. А потом вдруг наступил май… Кажется, это фраза Булгакова, но ведь так оно и было! 24-го мая у нас был выпускной из музыкалки. Есть многолюдная фотография выпуска на залитом солнцем крыльце 130-й школы, на ней присутствуют также Коля и Боря, которые вообще-то выпустились на год раньше, Шеф, Маша. В тот день Шеф и Н29 подарили мне Большой испанско-русский фразеологический словарь и открытку с видом румынского города Брашов, с чуть ироничной подписью её рукой.
А вечером я проводил её до дома, и это было половиной большого счастья. Второй половиной большого счастья было то, что она жила не просто далеко, а в Нижней Ельцовке! И мы шли, шли туда ‒ по майскому проспекту Лаврентьева, и по майскому проспекту Строителей, и по Бердскому шоссе вдоль леса, и потом через железнодорожные пути, со смехом сбежав с горки… Домой я возвращался через лес, напрямик, благоухала сирень, мне было пятнадцать, ей четырнадцать, и был месяц май!
Ещё были игры в бадминтон напротив школы, её бег вдогонку от остановки Теплофизика (кажется, 29-го июня), пара занятий испанским в ДУ ‒ вдвоём, прощание в подъезде перед моим отъездом в Крым, письма. Из Крыма я полетел в Иркутск, на этот раз уже по-настоящему познакомился с дядей Сашей, мы с ним сходили в поход на Хамар-Дабан (как раз недавно он неплохо описал этот поход в своих записках о Владимире Перязеве). И как раз там, в то лето, мне задали однажды у костра вопрос о том, как я представляю себе воду…
В середине сентября был концерт на пивзаводе, и на обратном пути, в автобусе, мы с ней завели летопись оркестра (кстати, в том концерте участвовало 25 человек). А потом как-то вдруг наступило безвременье. Я учился в 11-м классе, позади была неопределённость с Янковским и гипотетическим поступлением в муз. училище или спецшколу при консерватории. Я серьёзно готовился к поступлению на гуманитарный факультет НГУ, ходил на подготовительные курсы, много читал. Оркестровая жизнь снова была активной, я снова играл на кларнете (в сентябре я ‒ в связи с той неопределённостью ‒ делал по указанию Янковского перерыв, исполнял партию тарелок в «Фарандоле» и что-то ещё подобное).
Из того времени в памяти сохранилась зарисовка, сделанная мамой ‒ она однажды увидела Н29 на остановке, с подругами, и сформулировала своё впечатление так: «Она стояла, как королева среди служанок». Конечно, имелись в виду не внешние данные и не одежда, а общее впечатление: осанка и выражение лица. Сейчас я не уверен, достаточно ли однозначно воспринимается эта формулировка, поэтому уточню, что в ней было одно лишь восхищение.
Ещё одна зарисовка, тоже от мамы, относится к последнему звонку, который состоялся в актовом зале школы 24-го мая 1993-го года, ровно год спустя после того яркого дня. «Но это ‒ личное…» Тем самым голосом ‒ мягким, грустным, мечтательным, из прекрасного фильма «Отель «Гранд-Будапешт». Его пару лет назад посоветовал мне Ленар и немного загадочно добавил: «Этот фильм ассоциируется у меня с тобой». И действительно, фильм произвёл яркое впечатление. Я даже сразу захотел проверить, не тот же ли это режиссёр, что снял «Королевство полной луны», ‒ и оказался прав…
   |
  |
   |
  |
  |
  |
Поступление и учёба в НГУ
Подготовка
Готовясь к поступлению в НГУ, я занимался с репетиторами и собираюсь немного рассказать об этом. Кстати, интересно, что и сам я, и все мои товарищи как-то не любили упоминать о посещении подобных занятий, за исключением вечерних курсов в НГУ. Считалось естественным, что ребёнок «из хорошей семьи», оканчивая «хорошую школу», должен быть в состоянии поступить в университет, не прибегая к таким низменным средствам, как репетитор. «Ведь что такое, в сущности, репетитор? Это когда ты дебил и не в состоянии учиться сам. Тогда родители вынуждены нанять тебе репетитора, который натаскивает тебя, как собаку, на элементарные вещи, которые любой уважающий себя человек может прочитать в учебнике!» Так мы полагали.
Стоит ли говорить, что на самом деле большинству этих самых детей «из хороших семей» таки довелось в 11-м классе позаниматься с репетитором, готовящим к сдаче вступительных экзаменов. Кому-то ‒ больше, кому-то меньше. Кто-то и так поступил бы, но перестраховался (точнее, перестраховались родители) и сдал экзамены с запасом. А кому-то, возможно, как раз занятия с репетитором очень помогли, и ещё не известно, как бы оно получилось иначе… Думаю, что практически все мои одноклассники по физматклассу поступили бы и так. Что касается самого меня, всё-таки моя стартовая точка была очень неблагоприятной (ещё в сентябре 11-го класса у меня и в мыслях не было, что через десять месяцев придётся сдавать русский и литературу!), так что без репетиторов мне пришлось бы туго.
Впрочем, сначала небольшое отступление. Дело в том, что у меня-то как раз не было оснований полагать, будто репетиторы – удел дебилов, поскольку мне самому пришлось познакомиться с ними, увы, задолго до выпускного класса. Вернее, что такое репетитор, я узнал ещё до школы: родители сочли нужным найти мне преподавательницу английского, которая приходила к нам домой. Продолжалось это совсем недолго и было, насколько мне помнится и по моим собственным впечатлениям, и по отзывам родителей, не слишком эффективным. В нашей школе английский начинался со второго класса, и если у меня к этому моменту и имелся какой-то запас, то иссяк он моментально.
Ещё два репетитора были у меня уже в… ‒ чуть не написал «в зрелые годы» ‒ в средней школе, по биологии и по химии. Классе в пятом или в шестом наметились проблемы с ботаникой, и родители заставили меня позаниматься с соседкой-биологом. Она была доброй женщиной, что-то мне объяснила, но вообще-то с трудом верится, что в школьном курсе ботаники было нечто такое, в чём трудно было разобраться самому по учебнику. Возможно, дело просто в том, что в тот период родители банально не могли заставить меня засесть за учебник, репетитор же выступал в роли внешнего, «мягкого» принуждения. Наверно, быть настолько ленивым и неорганизованным ‒ намного постыднее, чем страдать от нехватки сообразительности. Но что было, то было. Впрочем, у нас состоялось всего несколько занятий.
Примерно схожий сюжет повторился в начале девятого класса с репетитором по химии. С той, однако, разницей, что химия ‒ действительно непростой предмет, а подзапустил я его тогда основательно. Между прочим, девять лет спустя, в первом семестре на ГГФ, меня поджидал по-настоящему серьёзный курс общей химии: я потратил на него довольно много времени ‒ из домашних занятий учёбой мне как раз больше всего запомнился толстый учебник по этому предмету. Я часами вникал в пространные разделы, посвящённые энтропии и энтальпии, и в целом проникся тогда к химии уважением. В итоге, кстати, сдал письменный экзамен на «отлично», что оказалось тогда далеко не самой популярной оценкой по этому предмету.
Следующий репетитор был буквально навязан мне родителями, причём совершенно «на ровном месте». Было это, кажется, уже в 10-м классе ‒ почему-то точно не помню. Мне не нравился ни сам репетитор ‒ вальяжный, с толстенными пальцами в кольцах, ни содержание занятий, во время которых я просто решал задачи, а он изредка поправлял меня, но чаще просто кивал и давал следующую. Объяснений как таковых не было. Но главное, я был абсолютно, решительно не согласен с тем, что мне вообще требовался какой бы то ни было репетитор по математике! Однако родители считали, что им виднее, тем более что вроде как «именно благодаря этому репетитору» Дима Ш. поступил в НГУ (да, стало быть, действительно, занятия проходили в десятом классе). Сам я, кстати, совершенно не верил в эту версию: Дима был талантливый парень, завсегдатай олимпиад, и наверняка поступил бы и без этого сосисочного монстра. Однако моего мнения никто не спрашивал. Между прочим, занятия эти были отнюдь не дешёвыми, мне было жаль и денег, и времени, но приходилось подчиняться.
Забавно, что следующий мой репетитор, по литературе, уже для подготовки к поступлению на филологию, практически повторил только что описанный сюжет! Это была серьёзная дама, про которую было известно, что в этом году «исключительно благодаря занятиям с ней» дочь одного из папиных коллег, выдержав огромный конкурс, поступила на этот факультет. Причём если в случае с Димой у меня имелись большие сомнения насчёт «исключительности» заслуг репетитора, но, по крайней мере, было очевидно, что он не мешал, то в данном случае я был просто в шоке!
Дело в том, что занятия были устроены следующим образом: три будущих абитуриента (одним из которых был я, а вторым ‒ Лиза, ставшая впоследствии одной из ближайших подруг моей жены) под диктовку репетиторши записывали в тетради «нормальные» сочинения по списку тем, которые вроде бы могли в том или ином виде попасться на вступительном экзамене. Предполагалось, что если мы за оставшиеся до поступления месяцы успеем записать достаточно много таких «нормальных» сочинений и как следует их вызубрим, то нам сам чёрт будет не страшен, причём не только на первом письменном экзамене, на котором как раз и нужно будет написать сочинение, но и на устном экзамене по литературе.
Когда я довёл до сведения родителей, что иначе как шарлатанством данный процесс не назовёшь, они почувствовали себя в трудной ситуации. Дело в том, что дама была с большими связями и успела намекнуть, что связи эти, дескать, могут сыграть не только в плюс, но и в минус. (Как тут не вспомнить возмущённый монолог одного подпоручика из «Швейка»: «Вы меня не знаете! Но вы меня ещё узнаете! Может, вы меня знаете только с хорошей стороны! А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны!») Состоялся семейный совет, на котором было решено: 1) от сомнительных образовательных услуг всё же отказаться, сэкономив не только деньги, но, самое главное, бесценное время выпускного класса; 2) расставанье оформить как можно мягче, с благодарностью за переданные знания и сожалением, что приходится, якобы, взять паузу (под каким-то благовидным предлогом). Что и было исполнено.
Для меня так и осталось загадкой, чем была обусловлена рекомендация папиного коллеги, с которой всё началось. А что если пресловутые «связи» не были простой фигурой речи, и с их помощью действительно перекрывалась недостаточная содержательность занятий? Впрочем, не всё ли равно, с тех пор накапала уже четверть века...
Моим следующим репетитором стал преподаватель ФМШ, Александр Александрович Штоль, и попадание к нему ‒ моя большая удача! Занятия были групповыми, для четверых человек, с чередованием подготовки по русскому и по литературе. А.А. был ‒ и наверняка остаётся ‒ талантливым преподавателем и приятным, энергичным человеком. От каждого занятия с ним я чувствовал осязаемое продвижение вперёд. Впрочем, надёжнее любых ощущений об этом свидетельствует результат: вся наша четвёрка поступила! Двое набрали 13 баллов, а двое ‒ 14, что удалось, насколько я помню, лишь семи из более чем двухсот абитуриентов.
В общем, я до сих пор чувствую по отношению к А.А. большое уважение и признательность. В тот год я пару раз побывал на его спецкурсе по литературе для фэмэшат, и мне очень понравилось, как он читал стихи Бродского и Заболоцкого. Запомнились тогда и его интонации, оказавшиеся близкими мне, и сами стихи. У Бродского это были «Письма римскому другу» и «Сретенье» ‒ случайность или нет, но оба они входят в число семи или восьми моих любимых произведений этого поэта. Между прочим, А.А. по-прежнему работает в ФМШ, но, к сожалению, в Мишкином классе он не преподаёт.
Кроме А.А. Штоля у меня был ещё один репетитор ‒ мне порекомендовали взять у неё буквально несколько уроков уже ближе к концу весны или даже уже в июне, чтобы шлифануть знания для устного экзамена по литературе. Это было исполнено, причём, наряду с определённым багажом навыков, она добавила мне уверенности в себе, что тоже было в тот момент очень ценным. К моему стыду, память не сохранила имени этой молодой и обаятельной дамы.
Завершая тему подготовки, конечно же, следует упомянуть, что с октября по май я посещал подготовительные курсы по русскому и литературе, проводившиеся по вечерам преподавателями НГУ. Курс по литературе читала Светлана Павловна Рожнова, и, вне всякого сомнения, она также внесла весомый вклад в мою подготовку. (Кстати, очень не скоро я узнал, что она мама двух девушек, игравших в нашем оркестре.) Курс по русскому теперь, спустя столько лет, помнится мне уже без деталей, но он тоже был полезным, и его я тоже посещал до самого конца учебного года.
Поступление
В 1993-м году, когда я поступал на гуманитарный факультет, конкурс на филологию зашкаливал. Было подано 216 заявлений на 25 мест, причём одно из этих мест оказалось занято выпускником ФМШ ‒ они поступали в НГУ вне конкурса, по результатам своих выпускных экзаменов. Таким образом, реальный конкурс составил ровно 9 человек на место. Правда, это не стало для абитуриентов таким уж сюрпризом: в предыдущий год он был тоже очень высоким, хотя не настолько (кажется, семь с чем-то).
Забегая вперёд, отмечу, что кроме 25 счастливчиков, прошедших по конкурсу на бюджетные места, ещё около дюжины человек, недобравших баллы, приняли платно, в их числе Монику. Нельзя сказать, чтобы мы с ней много общались в годы учёбы (как и в последние годы школы), но, между прочим, возобновление более тесного общения в июне 1999-го года было в той или иной степени связано с её подготовкой к поступлению в аспирантуру по литературоведению... Хотя вообще-то нет, на самом деле всё началось с моего приезда к ней в марте того же года, но вернёмся к экзаменам.
Их было три: сочинение письменно, русский устно, литература устно. И вот ‒ вывешивают оценки за сочинение. Куча двоек, куча троек, не очень много четвёрок, всего лишь одна (!) пятёрка. У меня ‒ трояк! В расстроенных чувствах и без особой надежды на успех, иду на апелляцию. Получаю работу. И сразу же половина груза спадает с плеч: всего одна реальная ошибка: «десятелетие», при этом в черновике (их тоже раздали), о радость, написано правильно, через ¬ и . То есть имеются все основания настаивать на том, что это всего лишь описка.
Кроме этого, красной ручкой вставлена запятая после «однако» в начале предложения. Но это лажа, здесь «однако» ‒ не вводное слово, а противительный союз! И последнее: в длинном предложении зачёркнута точка с запятой, поставлена запятая. Это тоже лажа: имею полнейшее право на авторскую точку с запятой! Подходит моя очередь, со мною рядом садится милейшая Светлана Исааковна Гимпель (потом она читала у нас курс по советской литературе, а в 60-е, между прочим, как и Светлана Павловна, принимала активное участие в деятельности клуба «Под Интегралом» ‒ и подписала известное «Письмо сорока шести»; в тот день я увидел её впервые). Я возмущённо показываю ей, за что мне влепили трояк, она полностью принимает мои доводы, идёт с работой к комиссии ‒ и вскоре моя тройка превращается в четвёрку!
Собственно литературная часть сочинения осталась на апелляции не затронутой, а меня на самом деле исходно беспокоила именно она. Дело в том, что тема сочинения звучала примерно так: «Русский характер в отечественной литературе 20-го века», а я сгоряча в качестве одного из примеров рассмотрел Едигея из романа Айтматова «И дольше века длится день». Который, как-никак, был всё-таки казахом…
После этого я сдал оба устных экзамена на «отлично», набрал 14 баллов и поступил. Ребят, набравших 14 баллов, набралось меньше, чем бюджетных мест, так что 13 оказались полупроходными, с ними брали, кажется, по результатам собеседования, либо платно (могу путать: возможно, полупроходным были 12; но помнится так). Кстати, 15 баллов в тот год не набрал никто: девушка, получившая пятёрку за сочинение, сдала литературу на четвёрку.
Это происходило при мне: я готовился к ответу, но краем уха слышал, как она отвечает Н.Н. Соболевской. Девушка была на целых 4 года старше моего года выпуска, начитанная, немного манерная и немного своеобразная (впрочем, разве не естественно, что единственный из 216 абитуриентов обладатель пятёрки за сочинение будет не лишён своеобразия?). На устном экзамене она продемонстрировала независимость и несколько пренебрежительно отозвалась о творчестве Пушкина − в том духе, что его заслуги, конечно, значительны, но лично ей он совершенно не мил. Вероятно, делать такое заявление именно на вступительном экзамене по литературе ‒ всё же не следовало... Между прочим, пару лет спустя она вновь проявила независимость и перевелась из НГУ в Педагогический Университет.
Интересное совпадение: история с письменным экзаменом практически повторится шесть лет спустя, когда я буду поступать на геолого-геофизический факультет, на специальность «геофизика»! Правда, с одной неприхотливой вариацией: на этот раз в списке напротив моей фамилии гордо красовался банан ‒ за письменный экзамен по математике. Один из моих друзей (Дэн) потом весело рассказывал мне, как они обнаружили эту двойку и как их воображению предстала ироническая картина: «Шатров пришёл, сел ‒ и ни-и-ичего не написал!» (Слово «ни-и-ичего» произносилось тоненьким голосом.) Между тем, на апелляции выяснилось, что работа написана на твёрдую четвёрку, почти всюду стояли красные плюсики. Высокий вальяжный экзаменатор сказал мне, что мда, вышла ошибочка, «перепутали работы», но это пустяки, сейчас исправим. И действительно, немедленно исправили. Физику я написал на пятёрку и поступил (на этот раз было всего два экзамена с оценкой плюс сочинение, которое надо было написать на «зачёт» и с которым свежеиспечённый филолог сумел-таки справиться без апелляций).
В этой бодрой истории кроется, однако, своя ложечка дёгтя. Заключается она в следующем предположении одного нашего друга семьи. «Ошибочка» с математикой могла быть вполне сознательной: «мою» четвёрку поставили «кому надо», и этот кто-то, понятное дело, на апелляцию не пошёл. Если дело действительно обстояло именно так, то хорошо, что двойка досталась мне и у меня хватило уверенности в себе, чтобы явиться на апелляцию. А ведь на моём месте мог оказаться молодой, сомневающийся в себе паренёк, приехавший из глубинки, он мог увидеть двойку ‒ и решить, что «правильно ему говорили, не его это уровень», какая уж там апелляция, ещё если б тройка была, то был бы шанс, а тут…
Впрочем, даже не обязательно так фантазировать, ведь незаслуженное поступление одного в любом случае означает, что кто-то другой обманом остаётся за бортом: этим пострадавшим мог оказаться я, в итоге им стал кто-то другой (если жульничество на самом деле имело место, что доказанным фактом не является). Конечно, всё это не только не обвинения, но даже и не подозрения, а всего лишь умозрительные построения: могла иметь место чья-то схема, но могло и быть простой ошибкой. Только вот, если честно, удивление преподавателя на апелляции показалось мне тогда несколько наигранным…
Учёба
Итак, поступил я на филологическое отделение гуманитарного факультета НГУ. Филология состоит из двух основных направлений: языкознания и литературоведения. В НГУ оба они были крепко связаны с русистикой: тщательно изучалась история русского языка и древнерусской литературы, на летнюю практику студенты ездили в Тобольск и работали там со средневековыми летописями. Иностранные языки преподавались в ограниченном ‒ по сравнению с факультетами иностранных языков в других ВУЗах ‒ объёме и служили лишь необходимым дополнением к гуманитарному образованию.
Кроме филологии, на ГФ имелось ещё историческое отделение. В то время в НГУ ещё не начался бум на новые специальности, факультетов было шесть: физический, механико-математический, естественных наук, геолого-геофизический, экономический и гуманитарный, ‒ и это количество оставалось неизменным, по крайней мере, с конца 1960-х. Впрочем, уже пробивались первые ростки будущего разнообразия. На ФЕНе шёл уже, кажется, второй или даже третий набор на новую специальность «экология». На ЭФ, кажется, через год или два открылась социология. У нас же стали ковать железо прямо «не отходя от кассы»: в один из первых дней сентября новоявленным филологам и историкам объявили, что на нашем потоке планируется создать экспериментальную группу германистов, которые будут заниматься по отдельной программе, совмещая филологические и исторические дисциплины. Кажется, предполагалось, что потребуется конкурс, но энтузиастов нашлось как раз столько, сколько было необходимо: 5 филологов и 4 историка.
Большую часть лекций мы посещали совместно с филологами, общим с историками оказался только сквозной курс мировой истории (на протяжении всех семестров) и философия на первом курсе. Вообще, специальность наша оказалась в итоге гораздо ближе к филологии. Тут следует отметить, что каких-то явных предпосылок для открытия именно германистики ‒ в лице соответствующих специалистов ‒ в НГУ, вообще говоря, не было. К счастью, Я.И. Горбачёв прекрасно разбирался в готском, а И.А. Канакин ‒ ещё в нескольких дисциплинах. Но в целом проект был несколько авантюрным, и завершилось дело тем, что после третьего курса нас расформировали: историки вернулись к историкам, филологи ‒ к филологам. В дипломе у меня написано «филолог, преподаватель русского языка и литературы со знанием немецкого языка». Тем не менее, в статусе германиста я успел получить стипендию на стажировку в Германии, так что в моём случае этот лотерейный билет оказался, несомненно, выигрышным. Германской эпопее будет посвящена отдельная глава.
В первом семестре у нас было два курса, которые немедленно укрепили меня в уверенности, что я правильно выбрал факультет: введение в языкознание и введение в литературоведение. Впрочем, остальные предметы мне тоже нравились, попробую их перечислить: история древнего мира, античная литература, латынь, древнегреческий, немецкий и, конечно, физкультура ‒ футбол на улице.
Вообще-то мне казалось, что я много напишу непосредственно об учёбе, но теперь понимаю, что особого смысла в этом нет. Я занимался как следует, огромное количество времени проводил в читальном зале, от моей былой школьной разобранности не осталось и следа. Собственно, это внутреннее изменение произошло уже в 11-м классе, в процессе подготовки к поступлению, но тогда оно было ещё замаскировано скромными оценками в школе и лишь «ковало потенциал» для будущего поступления в универ. Теперь же точка приложения моих усилий совпадала с «реальным» направлением моей деятельности, я получал от учёбы удовольствие, а на сессиях ‒ хорошие оценки, и в итоге окончил гуманитарный факультет с красным дипломом.
Впрочем, вот одна забавная зарисовка с первого курса. У русистов был курс «История культуры», его читал довольно толстенький гражданин с внушительной бородой, но совсем ещё не старый. Внешность его в целом неплохо подходила к названию курса. Я полагал большим упущением, что нас, германистов, не вписали на этот курс (большинство лекций мы посещали совместно с группой русистов, историю – с группой историков, и только несколько предметов на более старших курсах были у нас собственными). Несколько раз я всё же побывал на этом курсе, когда у нас отменялась или переносилась какая-то пара. Бородатый толстяк довольно живо излагал всякие утончённые штуки. Детали я уже позабыл, но запомнилась одна фраза, озвученная в качестве морали к какой-то истории и произнесённая как-то очень «интеллигентно», с умильной улыбкой и театральным разведением рук: «Что ж, видимо, нужно просто почаще смотреть на небо!»
Так вот, через некоторое время одна из однокурсниц «засекла» лектора сидящим в набитом автобусе, рядом с ним стояла бабулька, а он отгородился от неё газетой и воодушевлённо эту газету читал. Сцена показалась мне необычайно смешной в сочетании с фразой о небе и прочих высоких материях. Причём она представляется мне очень жизненной, то есть характерной не для одного конкретного гражданина с бородой, которому не повезло в неправильный день оказаться в неправильном автобусе, а сразу для многих людей, любящих порассуждать о духовности…
Первую сессию я сдал в целом неплохо, только по истории получил четвёрку ‒ как мне казалось, не вполне справедливо, поскольку я тщательно изучил весь материал учебника. Однако упустил кое-что из лекций: и тогда, и потом на геофизике, а тем более в Хэриот-Ватте, я с трудом воспринимал информацию на слух… Остальные предметы сдал на пятёрки. А в летнюю сессию, кажется, вообще всё сдал на отлично. Возможно, кроме немецкого, точно не помню.
Когда летняя сессия окончилась, я словно неожиданно наткнулся на невидимую преграду: интенсивная учёба стала настолько привычной, что хотелось её продолжить. Немного поразмыслив, я счёл, что недостаточно качественно изучил историю Древнего Рима (хотя и сдал экзамен на отлично), и какое-то время доизучал её уже летом ‒ приходил в читальный зал. Вообще, для меня постепенно стало естественным возиться летом с каким-нибудь учебником. Так, летом 1996-го года я довольно интенсивно изучал теоретическую грамматику английского языка ‒ в том числе на пляже в Крыму, куда мы поехали в тот год с мамой и сёстрами.
Своеобразная ирония заключалась в том, что мой словарный запас и так-то был явно недостаточно хорош для выпускника спецшколы, а за прошедшее время он ещё дополнительно изрядно просел, поскольку английским я в эти три года не занимался. И уж совсем плохо обстояло дело с тем, чтобы что-нибудь сказать по-английски ‒ кроме разве что совсем простых вещей. Тем не менее, я, как ни в чём не бывало, проводил время, изучая именно теоретическую грамматику. Что ж, несколько лет спустя выяснится, что такое инвестирование летнего времени не было столь уж неразумным…
Общество Свободных Философов
Я уже рассказал, как в выпускном классе сложилась дружеская компания, назвавшая себя Свободными Философами. После поступления в НГУ наша пятёрка ‒ Давид, Вадик, Дима, Боря и я ‒ иногда прогуливались на переменах по переходу. Вообще-то физики и математики обитали в главном корпусе, а остальные 4 факультета ‒ в лабораторном (тогда ‒ и продолжительное время до того ‒ факультетов было 6), но у физиков бывали лекции в больших аудиториях в переходе между корпусами, и мы иногда прогуливались вместе на переменах. Видимо, чаще всё-таки вчетвером, без Бориса, потому что он одновременно с НГУ поступил в музучилище и значительную часть времени проводил в городе. (Так он и учился параллельно ‒ и в итоге окончил бакалавриат мехмата, притом что в итоге основным его призванием стала всё-таки музыка.)
Мне запомнился диалог во время одной из таких коротких прогулок на перемене ‒ короткий, но, пожалуй, типичный для юных студентов, тяготеющих к заумным беседам. Дима важно спросил меня, что, на мой взгляд, является более однородным: пространство или время (по всей видимости, этот вопрос был накануне, если не в тот же самый день, затронут у них на лекции, потому что ни у Давида, ни у Вадика он не вызвал никаких эмоций). Я задумался, и Дима, выдержав паузу, торжественно продолжил: «Время более однородно. Потому что пространство ‒ искривлено массами!» Тут уже у меня мелькнула собственная идейка, и я немедленно возразил: «Да, но время тоже неоднородно: оно искривлено событиями. Причём если пространство искривлено массами объективным образом, то искривлённость времени событиями является категорией субъективной». (Прошло 24 года, и я не уверен, что дословно воспроизвёл фразу, но все ключевые слова были именно такими.) Все трое «заценили» мой ответ. Впрочем, Дима развёл руками и пафосно подытожил: «Это ‒ говорит не физик». Что ж, так оно и было ‒ в то время.
На втором этаже перехода на стенах висели стенды, которые ранее использовались, видимо, для всякой агитации и объявлений, а теперь пустовали. И вот однажды ‒ всё той же осенью или в самом начале зимы первого курса ‒ на одном из этих стендов появилась бумажка, на которой упоминалось общество каких-то свободных философов, а также были перечислены их имена и ‒ через тире ‒ «звания» в обществе. (Не помню, были ли это звания или у кого-то просто эпитеты, а возможно что-то вроде ников ‒ дело было ещё до появления интернета и понятия «ник».) Под номером один шёл наш одноклассник: «Митя Власов ‒ Президент Общества». Другие имена оказались нам тоже знакомы: это была компания «ашников» из нашей параллели, некоторые из которых тоже заканчивали вместе с нами физматкласс. Другой информации на той бумажке вроде и не было, но намекалось, что данный стенд становится отныне трибуной этого самого сообщества. При этом других подобных трибун в то время не существовало.
Митяс несколько раз участвовал в 1993-м году в наших «философских» посиделках на крыше ‒ с пивом и без, но в условную пятёрку всё-таки не входил (зато он жил в той самой девятиэтажке). Главным образом как раз потому, что у него была своя прекрасная компания: ашники нежно дружили с самого первого класса, эта дружба всегда вызывала и до сих пор вызывает у меня восхищение (кстати, рок-группа «Дворник Макар», о которой я, несколько забегая вперёд, рассказал во второй главе, ‒ как раз их творение). В общем, мы нашли Митяса и сделали ему предъяву, что он украл наше название. Его ответ был прост: они ничего не узурпируют, мы пятеро ‒ полноправные члены общества и можем добавить свои фамилии в общий список, это даже приветствуется! Наше недовольство от этого не исчезло, но всё-таки мы пошли (не уверен, все ли) и дописали свои фамилии и «звания». Я обозвал себя «Жемчужиной Общества»… Что ж, мне ведь только-только исполнилось 17 лет : ).
Стенд висел в самом людном месте ‒ напротив центральной лестницы перехода, на перекрёстке всех дорог, и вскоре выяснилось, что бумажка привлекла внимание многих. Мой однокурсник Коля Баев с любопытством и лёгкой иронией стал расспрашивать меня про «сообщество, в котором ты был назван жемчужиной» (слово «жемчужина» он произнёс медленно и с выражением, словно наслаждаясь его вкусовыми качествами). Между тем, довольно быстро очухалась та кафедра, за которой числился этот стенд. Хотя они не использовали его до и не начали использовать после тех событий, но (произносить с еврейским акцентом) «почувствовали себя так, словно их только что обокрали». Сорвали бумажку и потребовали (не помню, устно или письменно) больше не захламлять чужое имущество.
И вот тут… Хотел написать, что у меня в голове родилась идейка, да призадумался... Вполне может быть, что на самом деле я посоветовался с мамой. С другой стороны, посоветовался о чём? Видимо, всё-таки идейка у меня уже была, а она только посоветовала, к кому именно обратиться за помощью. В общем, я пошёл к проректору по общим вопросам и рассказал, что вот есть студенческая организация, «Общество свободных философов», и нам нужен стенд, чтобы нести в массы свободную философию. А все стенды заняты. Он не стал ничего выяснять ни про организацию, ни про массы, а просто спросил, какого размера стенд мы хотим, после чего повёл меня в подвал главного корпуса к столяру и дал ему задание.
Через несколько дней оказалось, что стенд готов. Мы с Вадиком забрали его, но вешать его пока что было некуда, так что мы отнесли его в общежитие №4, в комнату к экономистам, с которыми я играл в футбол на физкультуре (то ли к Диме П., то ли к Андрею М. и Жене Л.). И только через несколько дней мы просверлили дырки в стене (смутно помню, что кто-то приносил из дома дрель) и повесили наш стенд на самом-самом невероятно козырном месте: тоже на втором этаже перехода, но прямо у лестницы, ведущей в читалку, практически вплотную к ступенькам. Наверху стенда, на длинной полосе бумаги, красовался заголовок: «Общество свободных философов». Это было 12-го марта.
В тот же день мы ‒ кажется, на этот раз полным составом, во всяком случае, Борис точно присутствовал, ‒ уединились в какой-то маленькой аудитории перехода и довольно быстро совместными усилиями сочинили Первый Манифест ОСФ. Я много лет помнил его наизусть, а сейчас вдруг оказалось, что чётко помню только от «снова с вами» до «свободной»... Начало воспроизведу приблизительно, но с хорошей точностью.
«Ура! Отныне мы, Общество Свободных Философов, снова с вами!
Не потеряв ни одного члена этой холодной зимой (ой! вот те раз…), мы собрались здесь, в центре Вселенной, и постановили:
1. Без философии жить нельзя.
2. Философия должна быть свободной.
…»
Не помню, чем оканчивался манифест, но я явно воспроизвёл его почти целиком, а в конце, кажется, читатели приглашались к дискуссии на любую тему. Манифест мы приклеили к стенду короткими кусочками изоленты. Не помню, сразу или нет, но приделали к краю стенда шнурок, на котором висел моток изоленты и ‒ на отдельной верёвочке ‒ бритва. Достаточно было написать что-нибудь на бумажке, прийти, отрезать два кусочка изоленты и разместить на стенде свой «пост».
На этот раз стенд вызвал уже настоящий интерес у студентов, благо мимо него каждый проходил хотя бы пару раз в день, а многие ‒ и по десять, и более раз. Сначала на нём стали появляться отдельные каверзные вопросы. Помню пару из них. «А как у вас с евреями?» Давид написал чёткий ответ: «С евреями у нас хорошо». Другой вопрос: «А как у вас с голубыми?» (Не помню точно, какое именно слово было употреблено, но, кажется, это). В ответ всё тот же Давид написал: «А вы просто так интересуетесь или партнёров ищете?»
А потом вдруг как прорвало: на стенде как грибы после дождя появлялись всё новые творения ‒ размышления, хохмы, стихи, кляузы... Можно было прикрепить свою бумажку не к самому стенду, а снизу к чужой бумажке, если это был ответ. Так возникали длинные дискуссии, иногда свешивавшиеся до пола, а иногда разраставшиеся до нескольких гирлянд (изолента оказалась отличным крепителем). Мы называли их не гирляндами, а «бородами». Их можно было читать наклонившись или присев, а можно было поднимать низ и читать «с рук». Каждую перемену перед стендом толпились люди и читали, читали, а кто-то украдкой прикреплял свой собственный «пост». Конечно, слово «пост» ещё не существовало. Использовалось ли какое-то другое слово? Что-то не помню…
Как я уже упоминал, в то время не было интернета. Многие люди (в том числе я) любили писать на партах. Я занимался этим и в школе, но умеренно: всё-таки это было как бы хулиганство. Когда же я в конце октября 1992 г пошёл на вечерние подготовительные курсы НГУ, то просто обалдел: в большой аудитории перехода (кажется, 119а) многие столы были исписаны снизу доверху, разными почерками. Там были и монологи, и диалоги, и тексты песен, и рисунки. Почему-то врезались в память строки песни «Безобразная Эльза», попавшиеся мне в один из первых дней, ‒ что-то вроде неожиданно приоткрывшегося прямо перед носом окошка в неведомую мне ранее «взрослую» студенческую жизнь (чего авторы песни, уж конечно, не предполагали). Интересно: недавно выяснилось, что Мишка тоже ценит исписанные парты. Однажды во время дежурства в ФМШ ему пришлось оттирать их, и он делал это с большой неохотой. Тоже увлечённо перечислил мне по телефону, что там были и просто надписи, и стихи, причём некоторые надписи датированы, и самые старые были сделаны больше 10 лет назад…
Так вот, наш стенд распахнул многим десяткам людей доступ к огромному количеству читателей, заменив парту тем, кто до этого не стеснялся на них писать, а тем, кто стеснялся, ‒ тем более. Явно не ошибусь, если скажу «к сотням», ‒ во всяком случае, в ту первую весну существования Стенда это было так. (Хотя, конечно, и тогда более-менее постоянных читателей было, наверно, многие десятки, как и позднее, но если считать и непостоянных, то всё-таки сотни.)
За считанные дни весь стенд оказался заполненным, и возникла необходимость регулировать материалы: что-то старое снимать, освобождая место. Как-то само собой так получилось, что эту обязанность взял на себя я. Вообще, мои друзья довольно быстро утратили к Стенду интерес, я же был совершенно воодушевлён процессом. Кроме освобождения места, время от времени приходилось выполнять функции цензуры, убирать агрессивные или пошлые материалы. В общем, я стал редактором стенда, но старался особо не светиться, сохраняя анонимность. Впрочем, к анонимности стремились практически все авторы. Выступая от имени Общества, я первое время подписывался «Редакция», а выступая от себя лично – Purumpumpero (искажённое Porompompero ‒ название и припев одной испанской песни). Вскоре псевдоним сократился до Puro ‒ исп. «чистый, без примесей».
Я уже написал про изоленту на стенде ОСФ ‒ изначально я повесил её на шнурке. Когда моток почти закончился (а расходовался он довольно быстро), то я нашёл дома старый, растянутый носок, оказавшийся без пары, и повесил его на другом шнурке рядом, а рядом написал: «Объявляется сбор денег на новый моток изоленты». Разумеется, носок был постиранным. Он быстро наполнился мелочью, на которую был приобретён новый моток. Не то чтобы я не мог сам купить изоленту, здесь, скорее, был элемент игры. (Хотя в то время, вообще-то, даже банальная шоколадка была роскошью; например, люди, с оглушительным щёлканьем и шорохом фольги ломавшие плитки в полной тишине читального зала, казались нескромными ‒ и было их очень мало.) Тогда ещё не было известно слово краудфандинг, но это был именно он, пусть и в таком несерьёзном масштабе.
Осенью 1994-го года Общество пополнилось новыми первокурсниками, в их числе были Тараканыч и Билли Бонс. Первый остался в моей благодарной памяти как человек, изготовивший и торжественно вручивший мне редакторский орден. А второй прикрутил к стенду «машинку Билли Бонса» ‒ металлическую катушку для изоленты с вращательной рукояткой.
Как я уже сказал, все дорожили анонимностью и старались размещать свои посты, когда у стенда было поменьше народу. Но выбрать такой момент было непросто. Кроме того, как раз из-за анонимности в первые недели (месяцы) было не понятно: стоят у стенда «просто» читатели, или среди них присутствуют в том числе твои анонимные собеседники, от которых ты как раз и пытаешься «шифроваться».
Через некоторое время мне «примелькался» высокий студент, подписывавшийся Злодеем. Вернее, мы примерно одновременно начали узнавать в толпе друг друга ‒ и в какой-то момент я подошёл и предложил познакомиться. Так началась моя дружба с Ромкой, которая была, к сожалению, не очень долгой, но очень крепкой. Летом 1999-го он уехал из Городка (а ещё лет через восемь ‒ и из России). Правда, после этого успел побывать свидетелем на нашей с Моникой свадьбе в сентябре того же года. Вечером ему надо было уезжать, и на самой свадебной вечеринке была произведена замена свидетеля, там в этой роли очень достойно выступил Давид. Борис к тому времени учился в Питерской Консерватории. Коля тоже. Мишка был в Израиле. Естественно, я перечисляю их не потому, что свидетелем должен был быть кто-то из них, а просто потому, что вспомнил про их отсутствие на свадьбе. Кстати, наша огромная добрая плюшевая обезьяна ‒ свадебный подарок Ромки.
Тогда же, в суматошные первые недели бытия стенда, моё внимание привлекли неизменно остроумные комментарии студента с псевдонимом Бегемот. Мне захотелось его разыграть, и я стал женским почерком (а точнее, с непривычным мне правым наклоном, тщательно выписывая «настоящие» прописные т, г, р и некоторые другие буквы) писать записки, адресованные ему и исполненные глубочайшего почтения. Подписывал я их именем Читательница. Бегемот «клюнул» и начал отвечать ‒ ну а кто бы на его месте не стал отвечать неизвестной поклоннице собственного таланта? И тут вдруг читательница стала «глупеть» ‒ постепенно, но неуклонно. Не настолько явно, чтобы сразу заподозрить подвох, но в целом довольно динамично… Через какое-то время Бегемот оказался в неоднозначной ситуации: «послать» незнакомую даму он уже не мог, а продолжение переписки с такой безнадёжной дурищей компрометировало бы уже его самого.
Впоследствии Бегемот оказался добродушным математиком на два года старше меня. А признанный интеллектуал сообщества, Capricornus, ‒ его однокурсником. Полная развиртуализация произошла в сентябре, когда некоторые постоянные участники общения на ОСФ уже были шапочно знакомы, а некоторые ‒ ещё нет. Мы письменно договорились встретиться в кафе и «снять маски». Собралось в тот вечер человек 15-20. Конечно, это были далеко не все авторы ОСФ, а только те из них, кому была интересна тусовочная составляющая. Потом такие встречи повторялись, хотя уже с меньшим количеством участников. На одной из таких встреч Тараканыч (к сожалению, не помню имя этого доброго человека «в миру»; только что он учился на год младше меня, кажется, на МехМате; впрочем, кажется, Алексей?) торжественно вручил мне собственноручно изготовленный орден ‒ как основателю и заслуженном редактору Общества. (Я и тогда не скрывал, что у истоков ОСФа стояло несколько человек, но редактором всё-таки стал действительно только один из них.) Орден был очень мастерски сделан – объёмная звезда, облицованная золотистой фольгой, висящая под прямоугольной колодкой, обшитой красным бархатом. Бережно храню его.
Кажется, к тому времени нас уже заставили «переехать» (перевесить стенд) метров на 25, к другой лестнице, намного менее оживлённой, потому что исходное место было уж слишком «козырным»: стоящие читатели мешали подниматься в читалку, а громкие обсуждения мешали в ней собственно читать. Ещё через какое-то время напротив нашего стенда появился другой стенд ‒ толкинистов. Их оказалось довольно много, в том числе часть до этого участвовала в нашем сообществе. Где-то к концу первого семестра второго курса я начал немного тяготиться обязанностями редактора, и примерно в конце зимы передал эти функции, а также весь архив ОСФ ‒ большую коробку с накопившимися за год аккуратно сложенными «бородами» и отдельными постами ‒ Сергею (Л.?) с ником Рефлектор.
Однажды вечером ‒ тоже на втором курсе и, кажется, зимой ‒ состоялся торжественный открытый суд над Злодеем. Ему инкриминировалось проявление высокомерия и даже грубости в адрес каких-то первокурсниц, писавших на стенде и чем-то его рассердивших (причём, кажется, что-то подобное периодически повторялось). Инициатором громкого судебного процесса был некий Прокурор Пуро. Судьёй был добродушный и остроумный увалень Бегемот ‒ математик 4-го курса. Адвокатом ‒ Алекс. Процесс вёлся по всем правилам, с речами и прочим. Обвиняемый был закован в цепи (их заблаговременно нарезали и склеили из бумаги ‒ в младших классах мы делали такие новогодние гирлянды), кроме того, такими же цепями к нему были прикованы гигантские гири (надувные шары). Ой, вдруг вспомнил! Я же ещё сделал себе из бумаги белый парик, во все стороны торчали завитушки! И уже в ходе заседания в какой-то момент зачем-то снял его, а потом наспех надел то ли задом наперёд, то ли наизнанку, что дало повод адвокату требовать отвода прокурора по причине его явного сумасшествия, однако судья отказал… В общем, развлекались как умели. Жаль, конечно, что ни у кого из нас не было в то время видеокамер, да и фотоаппараты (в то время ‒ ещё плёночные) были у нас как-то не особо в ходу…
Друзья
Борис
Самым оригинальным из моих друзей был Борис. Достаточно упомянуть, что он параллельно закончил механико-математический факультет НГУ (бакалавриат) и музыкальное училище по классу альта (а затем консерваторию в Питере и потом, видимо, ещё какой-то ВУЗ в штатах ‒ дирижёрское отделение). Борина оригинальность полностью принималась его друзьями и почиталась за закономерный спутник его музыкальной гениальности (его талант к математике тоже был безусловным, но это был всё-таки именно талант, которым не были обделены и остальные).
Фраза получилась неоднозначной: как будто Борис в юности был страшным эксцентриком и всем приходилось его терпеть ‒ нет, ничего подобного! Борька ‒ неизменная душа компании, остроумный и доброжелательный человек. Пожалуй, на тему оригинальности припоминается только состоявшееся в те же студенческие годы короткое обсуждение с Димой принципа рукопожатия. Он заявил, что крепость рукопожатия пропорциональна проявляемому уважению к человеку. Я в целом был согласен, но в качестве хохмы тут же спросил: «А Борис?!» Димка засмеялся, оценив контрпример, развёл руками и ответил: «Ну, Боря ‒ это особый базар!» С этим я был согласен. На самом деле представлялось естественным, что музыканту приходится беречь кисть руки от возможных последствий чрезмерного проявления уважения. Однако слова «особый базар», конечно же, включали в себя нечто большее, не относящееся только к рукопожатию. Сказаны они были по-доброму ‒ вообще, даже если бы Борька где-то накосячил (не припомню такого, но если бы), злиться на него было невозможно.
В число Бориных музыкальных талантов входило и пение под гитару. Честно говоря, баловал он нас этим не так уж много, но зато одна песня в его исполнении настолько точно ложилась мне на душу, словно это я её сочинил. (На самом же деле ничего путного я в то время не сочинял.) В ней были и кларнет ‒ мой родной инструмент! ‒ и «молчащее» девичье сердце, и ‒ вселяющая грусть, но и дающая надежду ‒ неограниченность пространства и времени. Про эту песню Боря заявил, что её любил петь его папа, а я потом нигде и никогда её не слышал. Даже много лет спустя, когда в интернете было размещено уже буквально «всё-превсё», я смог найти всего одно её упоминание, причём с искажённым текстом и без указания авторства. И вот только сейчас, снова погуглив, выяснил, что это произведение Евгения Клячкина.
Вспомнил забавный случай. Однажды, где-то на заре наших посиделок, наверняка в 1994-м году, мы с Борей решили позвонить с уличного телефона-автомата родителям – предупредить, что придём поздно. К этому моменту некоторая часть пива уже сменила стеклянную ёмкость на телесную, и в результате произошёл казус: Борис, будучи в рассеянности и продолжая разговор со мной, машинально набрал номер не своего, а моего домашнего телефона. Он бодро выпалил заготовленное: «Привет, мама! Я сегодня приду попозже, мы с ребятами общаемся». И неожиданно услышал в трубке голос моей мамы, растерянно проговоривший: «Что-то у тебя какой-то странный голос, сынок…» В этой ситуации благородный рыцарь не нашёл ничего лучше, как воскликнуть «Ой!..» – и повесить трубку!
Узнав причину этого «ой», я, естественно, хотел немедленно перезвонить маме и всё объяснить. Однако, немного поразмыслив, осознал, что цель-то звонка достигнута: моя мама узнала, что её сынок задерживается, а уж странный ли у него голос – это вещь очень относительная. Если же теперь рассказать, что случилось, то она наверняка вообразит, будто Борис страшным образом перебрал с алкоголем. На самом же деле употребляли мы тогда с хорошим чувством меры, так что реальная причина заключалась, конечно, в Борькиной рассеянности... В общем, перезванивать я не стал. А вот сделал ли сам Борис ещё одну попытку или тоже счёл, что миссия, как-никак, выполнена (он же честно оттарабанил положенное), этого я не помню. А может быть, у нас была только одна 15-копеечная монета, и мы планировали попросить одну маму передать информацию другой? В принципе, такая схема могла ведь и сыграть роль катализатора данной истории…
А вот фрагмент текста Бориса из юбилейного сборника для Э.М. Левина, 2013-го года: «Уже учась в университете, в одно из лет середины 90 х, когда кто-то с оружием в руках делил богатства матушки-Родины, я и небольшая группа убеждённых тинэйджеров целые дни проводили в музыкальной школе. В этом было что-то особенное, некая музыкальная коммуна, идиллия. Мы играли концерты, ходили на пляж, распивали дешёвые немецкие ликёры, заполонившие в то время все окрестные ларьки. (А однажды вечером мы с Серёжей Шатровым взяли бутылку Мадеры, четвертинку чёрного хлеба и…) В общем, есть что вспомнить».
Рома
Самым близким другом юности стал Рома. О том, как мы познакомились, я уже рассказал в разделе про ОСФ. В дальнейшем мы с ним много общались и в стенах универа, и в его комнатушке в «восьмёрке» ‒ общежитии номер 8. Однажды мне даже довелось заночевать у него в комнате на стуле… Конечно, случалось, что и выпивали ‒ иногда вдвоём, иногда втроём, с Алексом, а иногда (намного реже) и с участием кого-то из моих друзей-одноклассников, с которыми он тоже был знаком.
Ромка подрабатывал в экоклубе, и на третьем курсе мы с ним провели там немало времени за игрой в Миф (настоящее название игры ‒ “Knights”) ‒ замечательную, просто уникальную парную аркаду, в которую я потом с удовольствием играл дома с сёстрами, а много лет спустя ‒ с Мишкой и Каролиной. Даже в этом году ещё сыграл с Каролиной пару раз, а ведь игра-то ‒ 1986-го года!
Пару раз в конце 1995-го (или, возможно, в начале 1996-го) я заходил к нему в гости с одной девушкой, прихватив пару бутылок ликёра местного производства. Как сейчас помню, в ассортименте был черёмуховый, клюквенный и ещё какой-то вкус. Крепость была умеренной, вкусовая гамма ‒ тоже умеренной, но и цена ‒ тоже: местный производитель хорошо чувствовал баланс в душах своих земляков. (Правда, в случае с тридцатиградусной водкой под «креативными» названиями «Новосибирск-1» и «Новосибирск-2» гонка между неприхотливостью цены и непритязательностью вкусовых качеств зашла уж слишком далеко. Но что было делать, время было суровое…)
Мы с Ромкой учились на третьем курсе, а эта девчушка только заканчивала школу, на самом же деле она была нас младше на целых четыре года. Но у неё был ясный, независимый ум, с ней было интересно. Впрочем, рассказать-то я хотел об одном забавном эпизоде: когда пришла её очередь провозгласить тост, она сосредоточенно подняла бокал с черёмуховой настойкой и торжественно произнесла: «За то, чтобы все мы стали личностями!» (Имелось в виду, конечно, не вип-персонами, а взрослыми людьми с внутренним стержнем.) Тут, однако, она заметила, что мы с Ромкой, не сговариваясь, как-то немного нахохлились. Увидев её растерянность, мой друг, поколебавшись, смущённо пояснил, что нам-то с ним, дескать, уже и так довелось таковыми стать, это ведь только у некоторых юных особ всё впереди ‒ но это и прекрасно! На что моя подруга, нисколько не обидевшись и не растерявшись, тут же без всякой паузы подытожила: «Тогда давайте выпьем за то, чтобы вы ими остались!» Этот тост был одобрен единогласно.
(Пожалуй, вставлю здесь небольшое примечание. Разумеется, я не случайно не упоминаю в положительном ключе внешность девушек, которые нравились мне в разные годы. Во-первых, в этом случае следовало бы должным образом упомянуть каждую из них, потому что все они были – ну, примерно как изобразил С.С. Горбунков вертикальным жестом двумя руками: «Пф-ф!» Во-вторых же, автор тоже человек, и ему хочется ещё немного пожить.)
Зимой Ромка ходил в чёрной морской шинели, и мне запомнился такой эпизод: я в этой его шинели танцую с незнакомой мне девушкой медленный танец на какой-то дискотеке (видимо, в восьмёрке), а в широком боковом кармане этой шинели, невидимая окружающим, колыхается в такт музыке 250-граммовая стеклянная кружка, в которой у меня есть ещё немного пива… Вообще же дискотеки я не любил, как-то не срабатывал во мне на них расслабляющий переключатель, так что бывал я на них крайне редко и ненадолго. Возможно, зря. Но заявить это с уверенностью ‒ невозможно.
Когда мы с Ромкой выпивали в компании, то иногда ‒ в качестве хохмы ‒ заводили свой давний и исключительно личный спор на следующую тему: есть ли у скелета верх и низ? Впрочем, наверно, это просто так помнится, а на самом деле собственно спор наверняка случился всего пару раз, потом же он просто упоминался в компании в качестве шутливого представления остальным «человека, который всерьёз полагает, будто у скелета есть верх и низ», или же, наоборот, «человека, который до сих пор не уяснил себе столь элементарной вещи».
Не лишним будет упомянуть, что Ромка был биологом, а я ‒ филологом, так что наши точки зрения на этот «вопрос» условно соответствовали нашим специальностям. Аргументы с обеих сторон привлекались самые разнообразные. Естественно, я давно уже всё это позабыл, но с моей стороны в их числе было, например, использование скелета в качестве стрелки стариной Флинтом в «Острове сокровищ». Однажды, чтобы «уесть» друга, я выучил латинские названия костей черепа (до сих пор помню ос фронталис и ос темпоралис ‒ благо все три корня были мне понятны благодаря испанскому), неожиданно ввернул это в компании ‒ и достиг желаемого эффекта... В общем, эта шутливая пикировка была длительной. Много лет спустя, уже уехав не только из Новосибирска, но и из России, Ромка признал, что в моей точке зрения «всё-таки тоже было зерно истины».
Рома был свидетелем на моей свадьбе в сентябре 1999-го года. Он смог приехать всего на пару дней и вечером уезжал, так что в кафе его заменил в этой роли Давид ‒ получилось, что у меня было два свидетеля. Как раз летом того года Рома перебрался в подмосковное Ступино, где я навестил его несколько лет спустя, будучи в Москве в командировке (видимо, в 2006-м; или в 2004-м?). А ещё через пару лет он эмигрировал в Австралию.
Мне очень жаль, что мы мало общаемся теперь. Виной тому, увы, расхождение политических взглядов: в своё время мы как следует поругались в «аське» по поводу приговора участницам «Pussi Riot», но было очевидно, что и по бесчисленному множеству других актуальных тем современного мира можем только поругаться. А исключить эти темы из общения нам тогда не хватило мозгов... Вот так как-то получилось. Думаю, надо будет нам всё-таки перешагнуть через эти глупости. Если он прочитает эти строки, а я к тому моменту всё ещё не соберусь растолкать его в этой его Австралии, то пусть не поленится растолкать меня! Ради такого дела я готов буду поклясться на книжке Дарвина, что ни у одного скелета в мире нет и никогда не было не только низа, но даже верха.
Давид
Давид был, думаю, самым умным и целеустремлённым парнем в нашем классе. Неслучайно и его учёба на физическом факультете, и дальнейшая карьера были очень успешными. При этом он всегда излучал спокойствие и доброжелательность, а вдобавок обладал хорошим чувством юмора. Он упоминается в разных разделах моих воспоминаний, а здесь я, пожалуй, расскажу один случай в читалке.
В главном зале читального зала верхняя часть стены была украшена… фресками, что ли. В общем, расписана элементами разных наук. В частности, там было несколько слов на древнегреческом, который мы, филологи, немножко изучали на первом курсе. И вот однажды Давид поделился со мной своей догадкой: это ‒ первые строчки Илиады! Я, к стыду своему, до того момента не обращал на эти буковки ни малейшего внимания. (Впрочем, мне и вообще свойственна невнимательность к окружающим деталям ‒ к счастью, за исключением тех случаев, когда они являются частью моей работы.)
В общем, оказалось, что Давид прав. Причём никакого древнегреческого он, конечно, не изучал, а всего лишь знал буквы греческого алфавита: ведь они используются в качестве стандартных обозначений ряда физических величин. Немного подумал, сообразил, что мэниа похоже на манию, а мания ‒ на гнев. И вуаля, догадался! (Не думаю, что он специально выдумал это, чтобы произвести на меня впечатление, не такой человек.)
Перечисление друзей юности получилось выборочным и явно неполным. С другой стороны, о Коле я много написал выше, Миша уехал ещё до конца первого семестра, а про Вадика и Диму много можно чего дописать в составе компании, а вот по отдельности как-то сходу ничего не приходит в голову. Разве что упомянуть, что Вадик, кроме английского, очень прилично знал французский и даже ‒ о ужас! ‒ изучал в своё время латынь. Почему-то мне помнилось, что он знал французский лучше, чем я ‒ испанский; возможно, это зафиксировалось в памяти по состоянию на начало нашего знакомства (за 10-й класс я довольно сильно в испанском прибавил), но вполне вероятно, что его знания были гораздо шире и без этой оговорки.
С Саней мы в первые университетские годы общались довольно мало, а вот на третьем курсе я дважды побывал у него в гостях. В том числе однажды зашёл к нему вдвоём со спутницей. Недолго, но душевно посидели. Помнится, он ещё добродушно поставил нам послушать только появившуюся тогда песню «Лиза», и она показалась мне тогда очень классной…
Поездки на базу
Раза три летом 1993 и/или 1994-го года ездили на базу с одноклассниками по 11-му «М». Таких баз было несколько, по одной чуть ли не у каждого института, они были разбросаны по побережью Обского моря, причём я, к стыду своему, до сих пор толком не представляю их расположения на карте. К этому времени принадлежность родителей к институту уже не была необходимым условием, и компании собирались произвольным образом (хотя, кажется, как раз эта база была ИТПМовской). Жили в домиках, по 3-4 человека, готовили еду вместе на общей кухне, купались, играли в игры, ну а вечером, естественно, собирались на общие посиделки у костра. Отчётливо помню ночную атмосферу этих посиделок ‒ лес, казавшийся бескрайним, песок, звёздное небо, песни под гитару, разговоры. И, конечно, действие вина ‒ ещё не очень-то привычное, но уже казавшееся таким родным и добрым. Компания была преимущественно мужской, романтических эпизодов в тех двух или трёх поездках не было. Кстати, чрезмерности в возлияниях тоже не было.
Впрочем, однажды так получилось, что я поехал на ту же базу в компании трёх девушек: остальные (в числе которых был Борис) по разным причинам вдруг не смогли. И вот в этот раз я именно что перебрал с алкоголем. (Правда, на это у меня, так сказать, были свои причины. Точнее, они приобрели явственные очертания прямо там.) Условной соломинкой оказался злополучный «Слънчев бряг», который я изрядно отдегустировал из горла при полном отсутствии закуски и который долго ещё потом неприятно было видеть на полках ларьков. Произошло это уже ночью и проявилось во всём многообразии форм: сидя на пристани, я болтал обутыми ногами в воде ночного Обского моря, не поддавался уговорам моих дам уйти спать, был с ними недостаточно учтив (хотя, разумеется, не груб), а в довершение всего уже по пути к домику шлёпнулся в погасший костёр и испачкал углями одежду и физиономию. Думаю, девчонки со мной намучались, но они рассказывали, что это было вообще-то и весело.
Подобных «переборов» было в моей юности, видимо, всего два: этот и в первые дни в Германии. К сожалению, в более зрелые годы к ним добавилось ещё несколько, последний ‒ весной 2015-го года. К счастью, в эти более поздние случаи меня «накрывало» уже дома или по пути домой, и глупостей на людях я не совершал. А после последнего такого случая сделал, что называется, выводы и практически перестал употреблять крепкие напитки, да и объём выпиваемого вина как-то постепенно ‒ сам собой, без каких-то специальных ограничений ‒ значительно уменьшился…
Посиделки с друзьями
Я уже упоминал, что в 90-е годы значимую часть городского ландшафта составляли Ларьки ‒ именно с большой буквы, как принципиально важный элемент эпохи. Это были металлические киоски размером, вероятно, 2.5 х 2.5 метра, с витриной с лицевой стороны. На ночь витрина наглухо закрывалась металлическим щитом. Впрочем, многие ларьки работали круглосуточно. Основным товаром были алкоголь, сигареты, шоколад, печенье и иногда немного закуски, в том числе в банках. В частности, гордыми и праздничными рядами стояли уже упоминавшиеся в моём повествовании ликёры с этикетками на немецком. Были и другие ликёры, но именно эта немецкая серия запомнилась мне особенно. Вишнёвый, персиковый и другие. (Помню цвет и вкус персикового ‒ у меня на дне рождения в 1993-м году, под проникновенное, лирическое звучание испанских песен в сопровождении оркестра ‒ на новой кассете.)
Когда в 1996-м году я приехал в Германию, то был поражён тотальным, вопиющим отсутствием этих ликёров в магазинах. Какие-то другие были ‒ дорогие и невкусные, а про те никто даже не слышал! В итоге я решил, что они были австрийскими, и это мнимое объяснение оставалось в силе до 2008-го года, когда я съездил в Вену и понял, что загадка тех ликёров по-прежнему остаётся загадкой. Разгадки я не знаю до сих пор.
Четыре таких ларька стояли у ТЦ, со стороны почтамта, ещё четыре ‒ напротив Дома Учёных, на пятачке рядом с домом Наташи (сестры). Это был своеобразный перекрёсток дорог, и в 1998-м году я любил иногда посидеть там один на скамеечке с литровым тетрапаком вина, наблюдая протекающую мимо жизнь ‒ впрочем, не ощущая при этом никакой отстранённости. Кстати, в роли этого тетрапака чаще всего выступал Мугурел. Кажется, он стоил 14 тысяч, но я могу путать: цены интенсивно росли на протяжении всех 90-х, начиная с весны 1991-го, когда они единовременно подскочили ровно в 2.5 раза (проезд в автобусе стал стоить 15 копеек вместо шести и так далее). Конечно, это «сидение на скамеечке» с вином вовсе не было моим регулярным времяпровождением, оно повторилось раза четыре, но запомнилось как элемент тогдашней беззаботной жизни.
Иногда мы с друзьями-философами договаривались собраться и немного повыпивать ‒ той же компанией, которой мы отмечали поступление. Первый такой сбор я уже описывал, а второй состоялся, между прочим, довольно не скоро, весной 1-го курса, дома у Вадика. В то время в нашей компании философов такие мероприятия назначались заранее, за неделю : ). Давид в первых сборах участвовал, но через некоторое перестал. Как-то собирались и у меня. Потом несколько раз у Бориса, в новой большой квартире на ул. Правды. (Позднее, в 1998-1999-м годах, там же стали играть в доппелькопф ‒ правда, уже другой компанией: Борис, Юля, Дэн, Полина, Вова и я.)
Однажды зимой сидели у Бориса ‒ кажется, уже без Давида. Всё протекало очень душевно и весело, но в какой-то момент оказалось, что необходима добавка. Кинули жребий, идти выпало мне. Пока я одевался, на ребят нахлынула сентиментальность, они стали беспокоиться, что улица полна опасностей (кстати, в то время «так оно и было»). В общем, хозяин дома торжественно сунул мне в правый карман пуховика молоток, каждый по очереди обнял меня, и я выдвинулся в путь. Путь этот пролегал через Ильича, к ларькам у торгового центра. Уже подходя не вполне ровной, но твёрдой походкой к ларькам, я неловко поскользнулся и упал, причём прямо перед стоявшей неподалёку милицейской машиной. С достоинством отряхнул снег, дошёл до ларьков и долго вглядывался в ассортимент и цены. Но что-то мне там не понравилось, так что я двинулся в путь к другим ларькам, у Дома Учёных. И вот как раз когда я снова проходил перед милицейской машиной, меня угораздило опять поскользнуться на том же самом месте. Тут уже из машины выглянул милиционер и поманил меня пальцем к себе.
Что было делать? Не бросаться же наутёк. Я подошёл, и меня попросили сесть в машину. Я сел и изложил суть дела: выпиваем дома, никого не трогаем, вылазка осуществлена за добавкой. И тут они каким-то образом углядели у меня в кармане этот молоток. Я объяснил, что молоток мне дали друзья, отбиваться от гопников, без этого отказывались меня отпустить. Как ни странно, мои объяснения были расценены как удовлетворительные. Кстати, отдельно было упомянуто, что я студент, пришлось даже показать студенческий билет (впрочем, наверно, у меня было с собой только зелёное читательское удостоверение, но помню, что документ я показал). В общем, несмотря на явно не вполне трезвое состояние, меня отпустили, только недвусмысленно пригрозили насчёт молотка, чтобы больше я с ним по улицам не разгуливал.
Вернулся я с большим запозданием, но с поллитрой. Друзья уже сильно переживали, куда я запропал, и бросились радостно обнимать меня. Продолжения вечера я не помню. Но стоит отметить, что до свинского состояния мы никогда не напивались, никуда не ходили, между собой не ссорились. Всё было душевно. Примерно так же потом выпивали с Ромкой. Хотя ‒ почему потом? Примерно в то же время, начиная со второго курса. А иногда и объединённой компанией ‒ у Ромки, но с участием Бори, Димы, Вадика. Даже есть такая фотография начала 1998-го года, сделанная у него в комнате…
Занятное наблюдение
Почему-то мне с самого начала казалось, что ученики и выпускники 162-й школы ‒ обладатели какого-то ореола утончённости, «инакости» по сравнению с другими. Воспринималось это примерно так: есть ученики «обычных» школ; есть мы, стотридцатники, ‒ соль, перец и касторовое масло земли, которых учителя любят пугать переводом «в простую школу»; а есть ‒ они, таинственные эльфы из 162-й, на которых изучение французского языка наложило неявный отпечаток вдохновения и аристократизма. Проще всего, конечно, было бы предположить, что эта моя фантазия стала результатом бессознательного перенесения восторженного отношения к какой-нибудь юной особе из этой школы на всё её окружение. Но ведь нет, в первую очередь это было обобщение каких-то неуловимо общих черт между Колей Ш., Витей С., Петей Б. Да, конечно, к ним следует добавить Лену Б., Марину С. и, возможно, кого-то ещё, но факт остаётся фактом: это было суждение ума, а не сердца. А уж насколько оно было справедливым, судить не берусь.
Разные воспоминания юности
Поездка в Коктебель
Летом 1992-го года мы с мамой и сёстрами отправились в Крым вчетвером. Не помню точно почему, но решено было в этот раз отдыхать не в Коктебеле, а на каком-то другом курорте. Видимо, в Евпатории или в Алуште. А мне очень хотелось хотя бы на денёк сгонять в мой любимый Коктебель. И ‒ после некоторых колебаний ‒ на семейном совете решено было предоставить мне такую возможность. Деда написал мне на бумажке адрес в частном секторе, куда я должен был заявиться и снять у некоего Юры койку на один день.
Не помню точно, приехал ли я в Коктебель уже под вечер или же провёл день на пляже, а уже ближе к вечеру направился на поиски запланированного ночлега, но эта деталь не столь уж важна (хотя второй вариант представляется более вероятным). Найти нужный адрес оказалось не так просто, и в процессе поисков я познакомился с пожилым мужчиной, который тоже сдавал комнаты приезжим. Узнав, чей адрес я ищу, он предложил мне остановиться у него, а когда я отказался, то буркнул что-то вроде «Ну, ладно. Когда там у них начнётся это… как обычно… Тогда, так и быть, приходи. Может, будут ещё у меня места». Не придав значения его словам, я попрощался и отправился по исходному адресу, благо это оказалось рядом.
Там меня встретила молодая хозяйка (старше меня максимум лет на десять, а мне было пятнадцать) и, услышав, что направил меня мой дед, по личному знакомству с Юрой, оказавшимся её мужем, моментально созвала целую толпу граждан. Все явились как-то очень быстро, словно только и ждали сигнала, ‒ братья, свояки и, вероятно, просто соседи ‒ и с интересом уставились на меня, как на посланника с далёкой планеты. После продолжительной паузы кто-то из них спросил: «Ну, давай, рассказывай же! Где они вместе сидели?» Я растерялся: «Кто?» ‒ «Ну, Юрик и твой дед, кто ещё-то?» Мне пришлось признаться, что деда нигде не сидел, а при каких обстоятельствах и, главное, когда он познакомился с хозяином дома, мне неведомо.
Всех охватило нешуточное разочарование. Однако койко-место мне было предоставлено, а вместе с ним и участие в спонтанной вечеринке, для которой мне посоветовали приобрести в соседнем магазинчике пару тетрапаков портвейна, что было мной с удовольствием выполнено. Вечеринка получилась очень энергичной, портвейн лился рекой, все были очень веселы. Правда, в какой-то момент в этом веселье сначала возник, а потом начал незаметно усиливаться какой-то лёгкий диссонанс. Постепенно сквозь пары алкоголя для меня прояснилось, что диссонанс крутится вокруг того, позволить ли мне ночевать у молодой хозяйки или же всё-таки не позволять. Сама хозяйка настаивала на положительном решении, но, вероятно, её настроение было сочтено родственниками излишне приподнятым, и у них возникли какие-то нехорошие подозрения. В общем, слово за слово, конфликт перерос в ссору, причём стало очевидным, что ссора, в свою очередь, почти неизбежно перерастёт в драку.
В этой ситуации у меня хватило сообразительности незаметно ретироваться и заявиться ‒ уже очень поздним вечером ‒ к тому пожилому мужчине, чьё предостережение оказалось столь пророческим. Он нисколько не удивился моему появлению и рассказал, что «у них там» чуть ли не каждый вечер поножовщина. Вот только разместить он меня не мог: все места были уже заняты. В итоге нашёлся другой ночлег, и всё закончилось хорошо. На следующий день я как следует поплавал, насладился столь любимыми мною видами гор и моря ‒ и вернулся в Симферополь. А в следующий раз побывал в Коктебеле только восемь лет спустя, вдвоём с Моникой.
Пластинка кубинской музыки
17-го октября 1992-го года меня поздравляли с днём рождения на репетиции оркестра. Шеф где-то раздобыл пластинку “Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro” серии “Clásicos del son”, на её конверте расписались все присутствующие. В нашем репертуаре было довольно много латиноамериканской музыки, ещё имелось несколько сборников нот, которые я с большим удовольствием изучал, но вот собственно записи были тогда в большущем дефиците. Эта пластинка стала для меня, по сути, первым знакомством с «настоящей» кубинской музыкой, причём как раз этот именитый ансамбль, несомненно, является одной из вершин данного жанра (son). Не могу сказать, что мне понравились все песни: на мой вкус, некоторые припевы были слегка назойливыми. Но песни, собранные на первой стороне пластинки, меня просто пленили. В особенности “Palomo” Рафаэля Ортиса. Там же оказалась песня, которую мы много играли в оркестре, ‒ пожалуй, даже главное произведение нашей кубинской программы ‒ “Las cuatro palomas”. Аранжировка была немного иной, и это добавляло свой шарм.
К сожалению, в некоторых песнях разобрать слова оказалось для меня практически непосильной задачей (хотя обычно я справлялся с этим относительно неплохо ‒ например, записал со слуха тексты почти всех песен альбома Хулио Иглесиаса “La carretera”). Но, скажем, уже упомянутая “Palomo” становилась от этого ещё более хмелящей, обволакивающей своим нечётким ‒ словно переливающимся из одной ёмкости в другую ‒ ритмом.
Три года спустя, на третьем курсе, преподавательница немецкого предложила студентам подготовить устные доклады на любую тему. Я выбрал кубинскую музыку и довольно восторженно рассказал однокурсникам про эти самые нечёткие ритмы, размывающие контуры действительности и уносящие куда-то вдаль… Позднее я узнал и полюбил творчество других латиноамериканских ансамблей и исполнителей, моими любимыми стали “Los Panchos” (пару лет назад нашёл и скачал все их диски ‒ более полусотни, разобрался с чередованием семерых солистов) и “Trio Los Paraguayos” (здесь ещё предстоит поработать). Но Куба, конечно, навсегда осталась в моём сердце.
Н.
Пожалуй, напишу ещё об одном романе. Почему-то сложилось так, что я привык вспоминать о нём немного меланхолично и отстранённо, как о каком-то пасмурном периоде, в котором не было упоения, а если и было, то являлось лишь заблуждением… И лишь недавно ощутил в себе совершенно другое отношение к тем далёким неделям ‒ путь не восторженно-трепетное, но живое, тёплое, бережное. Впрочем, обо всём по порядку.
В конце сентября одиннадцатого класса мой лирический герой неожиданно столкнулся с окончанием сказочного года, которое ‒ к счастью или к сожалению ‒ произошло без объяснения и генезис которого, если быть честным, для меня до сих пор небезынтересен. После этого год тянулся, как один долгий день, наполненный минимальной школьной учёбой, максимальной подготовкой к вступительным экзаменам (кстати, сначала кроме литературы и русского ожидалась ещё история России, но вскоре её отменили) и бесконечными мыслями о той, которую мы договорились называть Н29.
И вот ‒ шла осень первого курса. После длительной и интенсивной подготовки к поступлению я на полном ходу ввинтился в учебный процесс и учился, учился, не сбавляя оборотов. До вечера сидел в читальном зале, делая исключения только для репетиций оркестра. И ещё, к счастью, была физкультура, на которой мы ‒ примерно дюжина экономистов и я ‒ с первого и до последнего занятия (кажется, физра была до конца 3-го курса?) играли на улице в футбол, даже в минус 20. Только однажды тренер попросил нас пробежаться на лыжах ‒ сдать зачёт…
Н. тоже играла в оркестре. К этому времени его состав снова расширился. Мы какое-то время дружили втроём ‒ с ней и с Колей. А потом у нас возник роман, и Коля как-то отдалился. Не помню, как именно он начался, но, кажется, вскоре после моего дня рождения. Она подарила мне запись Луиса Эдуардо Ауте ‒ и одна из песен этого альбома удивительно живо и красиво напоминает мне то время ‒ с читальным залом, короткими встречами между занятиями, записками, прогулками. Все прогулки были вечером, а был ноябрь и декабрь ‒ и это постоянное отсутствие солнца, вероятно, причастно к формированию воспоминания об общей пасмурности эпохи. Воспоминания, оказавшегося поверхностным и не вполне достоверным.
Впрочем, только что сообразил интересную вещь: ведь в ноябре 1993-го года мы отмечали 60-летие Эдуарда Михайловича! Празднование состоялось в школе, было много людей, в том числе старшего поколения оркестрантов, многих из которых я тогда не знал ‒ и не запомнил. Всё прошло как-то шумно, весело и мимолётно, почему-то не помню деталей. После мы с Колей, Петей и кем-то ещё сидели то ли у кого-то в гостях, то ли даже в каком-то подвале… (Да, кажется, в подвале! В то время были распространены такие подвальные «явки», они назывались «конторами».)
Воспоминание о том юбилее было названо «интересным» по следующей причине: благодаря этому я сообразил, что ещё летом 1993-го года мы с Колей стали преподавать испанский Н., Маше С., Ане Х. и Сергею И. Да, уже в этом году у нас были летние репетиции и общение. Я уже не в первый раз забываю об этом: мне хорошо помнится летний лагерь в школе в следующем, 1994 м, году ‒ с футболом, картами, походами на пляж. Но преподавание испанского было летом 1993-го. И, кстати, в 1994-м лето было уже без Коли и без Н. В июне они поженились (мы с Борей были на свадьбе), а через какое-то время Колю забрали в армию…
А тогда, в ноябре – декабре 1993-го года, мы с Н. много времени проводили вместе. Даже как-то вечером играли вдвоём на стадионе в футбол каким-то сломанным пластмассовым ведёрком. Но было и особенное место наших свиданий ‒ площадка над лесенкой, которая вела в будку, возвышавшуюся над крышей лабораторного корпуса. Будка была расположена в глубине здания, над дальней лестницей, которая даже в разгар занятий была малолюдной. А узкая лесенка, ведущая выше, в будку, казалась секретной точкой, не нанесённой ни на одну карту. Кроме того, это была самая высокая точка в НГУ. (Теперь, с появлением нового корпуса, это уже не так.) Н. была меня на пару лет старше, и её это, пожалуй, смущало больше, чем меня. Во всяком случае, так получилось, что мы не давали большой свободы своим чувствам, словно оставляя это на потом. Не к чему гадать, насколько это было разумным.
Мы много разговаривали, много мечтали. Оба были идеалистами, причём она ‒ в большей степени. Она уже бросила один факультет и поступила на геологический, в тот год училась на втором курсе, но иногда ей казалось, что нужно куда-то срочно поехать и там заняться каким-то настоящим, большим делом. Уже потом была брошена и геология, на этот раз ради Педагогического университета, который она в результате окончила. И отъезд в дальние края ‒ конечно, не на Запад, она и в этом себе не изменила ‒ в итоге тоже состоялся, хоть и намного позже…
Интересно, что я со своей стороны, хотя в целом мне тогда всё на факультете нравилось, всё-таки ощущал, что учёба была бы ярче и полнее, если бы в центре её находился мой любимый испанский. Поэтому несколько неопределённая тяга Н. к смене места не воспринималась мной как какая-то непонятная и досадная помеха, я начал всерьёз рассматривать вариант перевода в другой ВУЗ, в иняз. Москву мы исключили, поэтому подходящих городов оказалось два: Нижний Новгород (кажется, тогда мы ещё называли его Горьким) и Иркутск. К слову сказать, не помню, с какой именно формулировкой Москва была исключена из рассмотрения, но суть примерно понимаю. А вот сбыться этому было не суждено.
Белка
Опишу ещё один вдохновенный период. Зима второго курса была как-то мрачновата ‒ без особых видимых причин. При этом я исправно учился, сдавал экзамены преимущественно на пятёрки. Это было время старославянского, готского. Я изучал их с большим интересом, даже с удовольствием! И вот только, как говорится, с личным ‒ было, как говорится, привет. Ещё вроде бы недавно, летом, было развесёлое стояние лагерем в школе ‒ музыка, общение, разные игры, даже походы на пляж. Было и одно сильное увлечение, которое уже позднее, через полтора года и позже, вдруг стало чем-то другим, более серьёзным.
В сентябре состоялась поездка в Горноалтайск ‒ поездка, о которой я столько мечтал (не об этой конкретно, а вообще ‒ куда-то поехать с оркестром, ведь казалось, что для нашего поколения оркестрантов этого никогда уже не будет). И она не подкачала! Хотя, конечно, немного жаль, что не смогли поехать ни Коля, ни Борис, и, быть может, можно было и без них быть чуть жизнерадостнее: всё-таки я был слишком замкнут на какой-то негативный внутренний настрой ‒ к сожалению, довольно обычный для меня в юности. Впрочем, не следует упускать из виду, что прошлое помнится схематично. К примеру, мой день рождения, 18-летие, прошёл очень весело, в компании друзей: пять философов (считая именинника) и три прекрасные юные дамы с оркестра. С той вечеринки сохранилась кассетная запись, порядка получаса ‒ ценная вещь, надо найти и оцифровать!
Так вот. В конце зимы у меня было своеобразное чувство холодной отстранённости от внешнего мира. Хорошо помню, что на зарубежке мы как раз познакомились с творчеством Новалиса (1772-1801): «переход … к объективно-мистическому идеализму, в котором неустойчивость земного и социального бытия преодолевается противопоставлением остро ощущаемой бренности сущего — миру абсолютного, в котором компенсируются ущербность, зыбкость, обреченность существующего мира». Его холодный, очень концентрированный образ голубого цвета (естественно, без малейшего намёка на гомосексуальность) удивительно совпал тогда с моим собственным настроением. К сожалению, я не очень-то силён в философских терминах, но всё же попробую описать моё тогдашнее мироощущение как «радикальный рационалистический идеализм». Мне казался всесильным человеческий интеллект. Мерещилась какая-то всеобъемлющая прозрачность и ясность всего: устройства мира, психологии людей и отношений, смысла жизни.
Вероятно, я всё же признавал, что невозможно постичь любовь. Мне и тогда, и потом представлялись несерьёзными попытки свести это таинственное измерение человеческой души к биологическим процессам, аналогичным весеннему пробуждению деревьев (при всей несомненной научности этой параллели). Но всё же и к любви я наверняка относился примерно как к совокупности объектов и атрибутов, подлежащих учёту и классификации ‒ пусть даже каждый из них и останется недоосознанным. И вот она вдруг вновь явилась мне ‒ такой, какой я готов был её увидеть. В образе 18-летней девчушки ‒ задумчивой, скромной, весёлой. Или, возможно, нескромной, невесёлой и незадумчивой ‒ всё относительно и субъективно, но я запомнил её такой, для меня она была такой. Кстати, Белка ‒ не имя, а мысленное прозвище: её светлые волосы были собраны в пушистый хвост. Да и сама она была весёлой, подвижной.
Интересно, отметить, что Монику мой тогдашний выбор буквально возмутил. В этом не было, конечно же, ревности: в те годы мы с ней мало общались и уж тем более нас не связывали какие-либо отношения, помимо дружеских. Насколько я понял, она просто считала мой выбор очень неумным (не сам предмет моего восхищения, а именно выбор оного), чуть ли не неуместным. Разумеется, я узнал об этом только много позднее, уже когда мы с Моникой поженились. Что ж, это ‒ женщины, им иногда бывает свойственно генерить негативную реакцию там, где её ничто не предвещает, так что не будем гадать.
Были короткие посиделки в гостях, небольшие прогулки, один поход в театр в городе. И ещё ‒ небольшой роман (в литературном, а не любовном смысле этого слова) в письмах, вручавшихся друг другу лично. Посиделки были слишком короткими, прогулки ‒ слишком редкими и небольшими, и вообще эти недели могли бы пройти совсем иначе. Тем не менее, это был импульс жизни, толчок к написанию стихов, к какой-то ещё столь недавно несвойственной мне лёгкости, открытости взгляда на мир ‒ пусть и не слишком весёлого, но точно не понурого взгляда. Что-то в этом роде.
Работа школьным учителем
В первом семестре третьего курса, в конце ноября 1995-го года, я начал преподавать русский язык в 204-й школе. Кажется, Аня начинала учиться в этой школе и проучилась там первый класс, если я не путаю, так что там были какие-то знакомства. Идея преподавания принадлежала маме. И, кстати, она была насколько неожиданной, настолько же здоровской. Мало кто из моих знакомых работал на третьем курсе (из студентов, естественно), и уж точно никто ‒ в школе. Правда, ставка была совсем-совсем небольшой: у меня не было даже неполного высшего, всего два курса ВУЗа за спиной! Но опыт ‒ опыт получился отличным. Мне достался 5-й «В» класс, семь уроков русского в неделю (шесть из них были для компактности объединены парами). Кроме того, несколько раз мне приходилось заменять учителя по литературе. Я проработал до конца учебного года и провёл, таким образом, около 150 уроков. Интересно, что всего за полгода до начала моего преподавания эту школу закончили Иван, Лёха и Глеб.
Надо сказать, что доставшийся мне класс являлся счастливым обладателем самых ужасных результатов срезовой контрольной по русскому, состоявшейся незадолго до моего появления, количество двоек ‒ зашкаливало. Кроме того, имелись серьёзные проблемы с дисциплиной: в классе было 25 человек, причём самого буйного, десятилетнего возраста. Первое время мне пришлось посвящать значительную часть своей энергии и изобретательности именно борьбе за дисциплину. Причём средства борьбы варьировались. Однажды я пришёл в школу со свистком на верёвочке, как у арбитра, и договорился с ребятами о сигналах: кажется, один короткий свисток ‒ общий призыв не шуметь, 2 свистка ‒ все должны прервать работу, замолчать и внимательно посмотреть на меня. Интересно, что на какое-то время это помогло.
В целом, по-видимому, с работой я вполне справился. Причём она мне очень нравилась! Нравилось и объяснять, и общаться с ребятами. Доводилось мне бывать и на родительских собраниях. Впрочем, кажется, меня приглашали туда всего пару раз. Возможно, родителей беспокоила моя молодость (как-никак, мне тогда только недавно исполнилось девятнадцать лет). Не помню уже, какие вопросы мне задавали, но помню, что чувствовал я себя на собраниях вполне уверенно и комфортно.
У некоторых ребят русский язык был запущен настолько, что стало понятно: штатными упражнениями и домашними заданиями этого не преодолеть. И я заставил этих отстающих переписывать дома в специальную тетрадь тексты из книг ‒ не помню, сам ли я это придумал или кто-то подсказал. Это помогло: количество ошибок в переписанных текстах, бывшее поначалу почти столь же ужасающим, как в диктантах, постепенно уменьшалось, а вслед постепенно росла и общая грамотность.
До сих пор помню многих из этого класса по именам и фамилиям, хотя встречал после этого только одну из них, Катю К., которая поступила на ГГФ одновременно с Натальей (она ведь тоже училась тогда как раз в пятом классе). Четверо отличников: Катя К., Матвей К., Борис Т. и ещё один паренёк ‒ кажется, серьёзный и молчаливый (Костя Ш.?). Вальяжный и добродушный Слава Т. (друг Бориса), подружки Оля Ю. и Оля Л., Таня И., Ирина О., Эля Ф., хулиган Илья М. с «подходящей» фамилией. Что ж, выходит, не столь уж и многих я помню по именам, 11 человек (но всех с фамилиями). Годики берут своё…
У них была вторая смена, так что мне не приходилось пропускать занятия в университете. Я ездил или, чаще, приходил пешком из университета, проводил урок или пару (мои семь уроков в неделю были сгруппированы 2+2+2+1), после чего возвращался обратно, в читалку. Вообще, я очень много времени проводил в читалке ‒ обычно в главном зале, за последним или предпоследним столом первого ряда, у окна, или центрального ряда, если у окна было занято.
Между прочим, целых три девчушки из того класса казались мне симпатичными: Катя, Таня и особенно Оля Ю. Вероятно, если бы они были тогда лет на 5 постарше, это могло бы усложнить педагогический процесс. Но это был, конечно, полудетсадовский возраст, так что никаких поблажек никому не было. Даже для Матвея, который хорошо учился, не нарушал дисциплину, да и в целом был мне по-человечески симпатичен, не было сделано исключения, когда он однажды вдруг настолько поссорился с кем-то из одноклассниц, что вступил с ней в драку. Я написал ему выговор и заставил показать эту записку маме, а потом принести обратно с её комментарием.
Вдруг вспомнил, что однажды сыграл с мальчишками в футбол! Совсем не помню саму игру, а только как кто-то из родителей скидывает нам в окно мяч ‒ с какого-то высокого этажа, в доме около школы.
Немного жаль, но мне не оформили тогда трудовой книжки, хотя исходно это предполагалось. Так что эти полгода учительства не принесли ни особых денег, ни стажа. Но они принесли ценный опыт, ощущение себя взрослым, чувство уверенности перед аудиторией, которое наверняка пригодилось позднее, когда я преподавал уже студентам, ‒ в Томске и потом в Уфе. Между прочим, в конце сентября, перед отъездом в Германию, я зашёл в класс проведать их ‒ и с ними всеми сфотографировался, причём Слава стащил мой цветной шарф, намотал его на шею и приосанился. И, пожалуй, не следует пренебрегать возможностью упомянуть, что ребята тогда обрадовались, увидев меня. Некоторые спрашивали, буду ли я снова у них преподавать, и огорчались, услышав отрицательный ответ. Воспоминание об этом эпизоде, конечно же, греет мне сердце.
О временах года
Интересная особенность: школьный двор помнится мне залитым солнцем. Конечно, весомый вклад в эту ассоциацию вносит фотография выпуска ДМШ №10, сделанная 24-го мая 1992-го года. Но есть и другие «солнечные» ассоциации. Например, из начальных классов: как девчонки увлечённо рисуют цветными мелками на бетонных плитах. Ещё более «насыщенным» является другое воспоминание ‒ осенней свежести и сплошных полей благоухающих сибирских цветов на бескрайних клумбах, с каплями дождя на листьях и лепестках. Я не был в детстве сентиментальным, скорее, был даже равнодушен к этим цветам и этим запахам. Однако память бережно сохранила их, словно предвидя, что когда-нибудь это благоухание, осенняя свежесть и крупные капли воды на лепестках вдруг окажутся ценными, несущими столь свежий отпечаток детства и жизни…
И только осень 1992-го года казалась сумрачной, даже мрачной. Как будто в ней не было ни благоухания, ни свежести. Хотя! Ведь она стала восприниматься таковой только в конце сентября, так что и здесь всё логично...
А вообще мне всегда нравилось более всего самое начало весны ‒ да-да, как раз самая слякоть и грязь, начало марта, ещё до апрельских запахов. Нет, конечно, апрельская весна мне тоже безумно нравилась. Но, видимо, в этой «настоящей» весне уже могла проявляться и лёгкая грусть, тоска по чему-то соответствующему в собственной жизни. Зато ранняя весна как бы ничего не требовала и не предполагала, а, напротив, только обещала, и звала, и радовала глаз бликами солнца в стёклах окон, и на стенах домов, и просто на снегу, который уже не казался холодным. По сути, наступление этой ранней весны улавливалось ещё даже до того, как снег начинал таять, в феврале, с появлением первых лучей «настоящего» солнца.
Позже, курсе примерно на третьем, я обнаружил, что примерно схожим образом мне нравится и самое-самое начало зимы ‒ примерно в конце октября. Первый снег, ещё до начала морозов, до сугробов, когда деревья выглядят ещё по-осеннему. Получается, я любил переходные эффекты становления ‒ от осени к зиме и обратно.
Вдруг вспомнил, что примерно в то время, в 18-19 лет, посвятил временам года несколько стихотворений. Как и в музыке, у меня не было ярко выраженного поэтического таланта. Несколько более поздних стихотворений представляются мне «настоящими», но они связаны с двумя ограниченными по времени эпохами (конечно, не эпизодами) в моей жизни. Вот уже много-много лет я совсем не пишу стихов ‒ и, пожалуй, это хорошо, потому что в противном случае это означало бы новую подобную эпоху, а это совсем не к чему. Наверно, стоит отметить, что стихи подобного плана (способные стать «настоящими») требуют, по крайней мере у меня, состояния определённого диссонанса. Так что их отсутствие ‒ верный признак, что в целом всё хорошо…
Нелепый школьный эпизод
Небольшая зарисовка из позднесоветской жизни. Это случилось, когда претенденты из других школ писали вступительные экзамены в физматкласс – не вместе с нами, а в отдельной аудитории. Соответственно, я не присутствовал и рассказываю со слов моих родителей, с которыми этой историей поделились родители одного из моих одноклассников − на выпускном чаепитии, два года спустя. Так вот, экзамен был письменный, и в середине его к этому будущему моему однокласснику подошла одна завуч – не будем называть её имени, − постояла рядом, а затем задумчиво и несколько бессвязно произнесла: «А ты, мальчик, зачем пишешь? Ты же всё равно потом в Израиль уедешь». Эта реплика врезалась мне в память как нечто совершенно возмутительное и чуждое духу привычной жизни. Я и сейчас считаю её недопустимой – и вдвойне недопустимой из уст учителя.
Хотя, если честно, сама мысленная констатация того обстоятельства, что эмигранты увозят не только свои гены, способности, руки, головы и надежды, но и – в качестве приятного дополнения – бесплатно полученное образование, причём во многих случаях очень качественное, − мысленная констатация этого факта, скажем так, в какой-то момент перестала быть мне совсем уж чуждой. Естественно, я даже мысленно не облекаю её в форму упрёка всем уехавшим − в том числе, разумеется, моему другу, которому и довелось в возрасте 15 лет услышать от завуча эти слова… Но вместе с тем я всерьёз полагаю, что те эмигранты, кто охотно кидается грязью в своё отечество (а таких персонажей среди эмиграции, увы, предостаточно), должны быть готовы примерить на себя это нехитрое соображение.
Соответственно, у этой истории есть свой маленький хэппи энд: её герой – грязью никогда не кидался : ). Он вообще нормальный парень по жизни. Уверен, что если бы дела с финансированием науки шли тогда в России получше, то он бы и не уехал…
Неудавшаяся попытка прославиться
Я уже упоминал, что в девятом классе мы писали тест IQ и, судя по отзыву В.И., у меня был неплохой результат, хотя его конкретное значение осталось мне тогда неизвестным. Семь лет спустя, в 1998-м году, в один из двух приездов в Симферополь (наверно, осенний), я нашёл у деды книжку с десятью тестами на IQ и выполнил их все ‒ естественно, соблюдая контроль времени. В книге была диаграмма, позволявшая вывести обобщённое значение по результатам десяти тестов (кажется, это не было простое осреднение), и мой результат оказался очень высоким. Обтекаемо говоря, он превысил уровень тогдашнего кумира Натальи, певицы Мадонны.
А ещё через год, в начале первого курса на геофизике, в университете провели конкурс IQ среди студентов. Набралась полная большая аудитория участников ‒ наверно, порядка сотни человек. При этом организаторы оказались полной размазнёй. Во-первых, они напортачили с временным лимитом, в результате чего результаты зашкалили все мыслимые пределы (у меня, кажется, получилось 187). Мой результат, как потом выяснилось, был вторым, при этом больше всех баллов набрал мой одноклассник Сергей Ч. Главная же хохма заключалась в том, что когда на двери комитета выпускников вывесили результаты, то моей фамилии там вообще не оказалось. Я пошёл разбираться. Организаторов теста в комнате не было, но мне показали, где лежат работы, и я нашёл свою, увидел баллы и понял, что должен был занять второе место.
Признаться, я был просто в ярости. Однако, поколебавшись, бучу поднимать не стал. Дело в том, что всего за пару месяцев до этого я сдавал вступительные экзамены, и мне пришлось пройти через апелляцию ‒ про этот случай я уже писал. За шесть лет до того была аналогичная успешная апелляция на вступительном экзамене на гумфак. При этом пересмотр оценок по результатам апелляции был, вообще говоря, редкостью, у меня же их набралось целых два. Оба случая были кристально чистыми, мне даже спорить не пришлось. И всё же… Как-никак, моя мама работала в университете, а каждому ведь не станешь доказывать, что случаи были кристальными… Так что теперь, неудачно ‒ пусть и по вине бессовестных организаторов ‒ посоревновавшись в IQ со студентами (которые, между прочим, почти все были значительно младше меня), добиваться, чтобы на двери триумфально вставили мою фамилию на второе место, ‒ мне этого решительно не хотелось.
Призом были пейджер и вселенская слава. Первый меня не вдохновлял, а второго тоже не слишком хотелось, потому что практически все мои одноклассники уже закончили ВУЗы, увлечённо работали по институтам, я же оказался снова студентом первого (!) курса ‒ и светиться в таком качестве не очень-то жаждал. Конечно, я не считал себя неудачником: всё-таки я только что закончил вполне неплохой ВУЗ, и не просто так, а с «красным» дипломом. И, кроме того, поступил в аспирантуру при институте филологии и какое-то время совмещал её со вторым образованием. Но конкурс-то был не для аспирантов, а для студентов, а я ‒ в свои почти 23 года ‒ был студентом именно первого курса…
Здесь, пожалуй, имеет смысл уточнить: Чапа был очень талантлив, но ему немного не хватало организованности. По этой причине ему в какой-то момент пришлось взять академический отпуск и на год отстать от сверстников. Так что в описываемое время он заканчивал магистратуру и тоже участвовал в конкурсе вполне легально.
У этой истории получилось забавное продолжение. Лет 10 спустя, когда появились соц. сети, я списался с одноклассником Сергеем К., и он, рассказывая о своей семейной жизни, с гордостью поведал мне, что в далёком 1999-м году его будущая жена участвовала в университетском конкурсе IQ и заняла в нём – та-дам!!! ‒ второе место. Я испытал смешные чувства: желание крикнуть «ноу!» голосом моего любимого Джека Леммона из «Some like it hot» (эпизод с корзиной цветов) или же «Нет! Пирог мой не сырой!!!» немного другим голосом. К счастью, я был уже достаточно взрослым, чтобы промолчать на эту тему.
   | ||||
 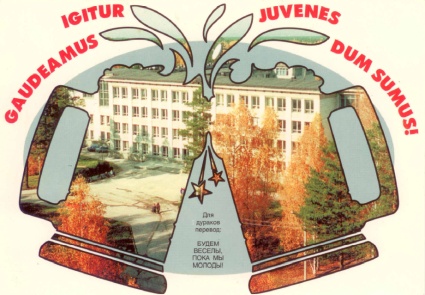  | ||||
   | ||||
  | ||||
   | ||||
| ||||
   | ||||
  | ||||
  | ||||
   | ||||
  |